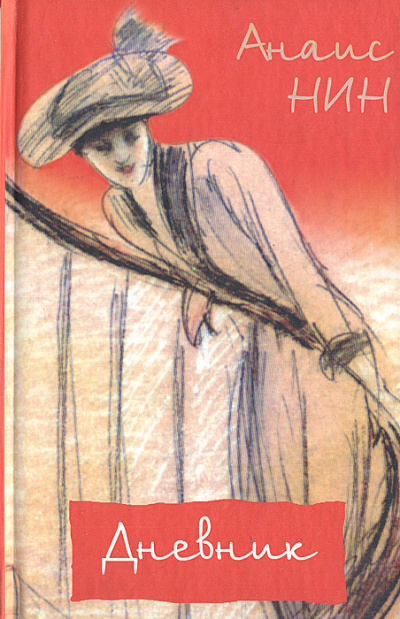Цеце - Клод Луи-Комбе
Да, он тихо дышал, я очень хорошо это помню, невинно дышал в тот день, когда я с бесконечно убежденной неспешностью начала о него тереться, от вульвы и до рта, я то отстраняла его, то придвигала в перепадах ритма, ближе то ко рту, то к паху, — и, в тот раз, как и впредь, ощутила, до чего изобильно желание на обоих полюсах моей плоти, а радость тем временем брала мое чрево приступом, и всю меня сотрясали сполохи наслаждения: я уже не знала, которые из моих губ, губы рта или вульвы — в равной степени затопленные, в равной степени самовластные, — более сексуальны, каким дано ощущать вкус, какие сладостнее и счастливее. Благодаря сему придатку мужественности, что во сне питал меня и через рот, и через вагину, я оказывалась как бы вдвойне женщиной; я обладала собою же. Я была словно сферой радости и сдерживала крик, который наполнял меня и рокотал в горле, только из-за страха, что, разорвав тишину, нарушу мгновение чуда.
В своей медлительности, в своем приближении к неподвижности, ласке вечности, это побуждение плоти не имело ничего общего ни с чем познанным мною до тех пор. Никогда мои неловкие отроческие жесты не затрагивали таких глубин наслаждения. Никогда сухая или влажная рука, рука тщетного ожидания и никчемной скуки, не зарывалась так в путаницу дендритов на пограничье души и тела, не заходила так далеко в поисках корней крика. Поклонница всяческой утонченности, я безусловно была влюблена в свои пальцы, и мне нравилось грезить об их жилках на последнем пределе моего взгляда на мое тело, — но теперь, признаю это без стыда и скорби, когда надлежало измыслить танец женщины вне женщины, в глаза бросалась их наивность. Ибо эта плоть с детским лицом, вышедшая из моей плоти и к ее же укромности неосознанно продвигающаяся, внезапно пробуждала во мне ту часть, которая еще никогда не жила, — часть, которая была не возможной или случайной, а действительно, в этом я была уверена до слез, составляла основу моего бытия. Как бы это сказать? Я никогда не была до конца уверена, что пригодна к существованию, — мир вокруг оставался столь бледен... Но там, в полноте мгновения, в котором упразднялись все мучительные двойничества жизни — снаружи и внутри, я и другой, прошедшее и грядущее, — я действительно жила, собранная, совокупная, воссоединенная в себе корнем своей ослепительной радости, и всё мое существо исходило восторгом.
Легко написать такое слово, как полнота. Но как передать пережитое? Я могла всасывать двумя ртами, могла наслаждаться двумя парами губ, на двойное влагалище у меня приходилось двойное лицо — и обладала той совершенно моею плотью, что приняла форму ребенка и замкнула круг между двумя полюсами моей радости... Никогда не сумею передать это в достаточной степени: ребенок был повсюду. Он странствовал у меня в волосах, он упокаивался в моем завитке. И из светлых моих губ переходило в темные, возможно, не что иное, как его лицо, возможно, поясница или живот — в любом случае то был как бы стебель моей плоти, то был мой член, счастливый своим жаром, своей сладостью, и он достигал во мне всё более и более сокровенных вод.
Ибо даже уход ребенка не вызывал никаких разрывов в непрерывности того времени. Я не звала его, не искала, я не спрашивала себя, где он мог находиться, — если он играл, если был на улице или в другой комнате, если упирался лбом в дверь, или в окно, или еще во что-то, я не задавалась по этому поводу вопросами и уж всяко не пыталась его удержать, я знала, что он вернется, даже если он и возвращался всё позже и позже — словно блуждал, словно колебался, словно ему нужно было разрешить какие-то вопросы, прежде чем вернуться, прежде чем проникнуть, как всегда на цыпочках, всегда с улыбкой, в комнату, где его ждала я, — я знала, что он вернется, и не потому, что материально не может без меня обойтись: если бы он проголодался, если бы замерз, если бы испугался, рядом нашелся бы какой-нибудь гостеприимный очаг, хлебосольная семья, бескорыстная, а то и настойчивая в своих щедротах. Нет! Он возвращался потому, что между нами, им и мной, установилось нечто совершенно своеособое. Он, мой малыш, ждал продолжения! Возвращался, чтобы посмотреть, что произойдет дальше, до чего, когда и куда это нас с ним заведет, он чувствовал, что переживает нечто из ряда вон выходящее, — то были чары. Он не противился.
Мой шустрый малыш крался на цыпочках души, махал мне на прощание ручонкой, отправлялся покорять пространство. Но пространство замыкала кривая, и она препровождала его ко мне и возвращала моему женскому телу, смешивала со всем тем, что вовлекалось по этой кривой в мою плоть, он возвращался на цыпочках души, на цыпочках улыбался, он говорил мама! Может статься, он больше ничего не умел говорить. Этого вполне хватало, поскольку я была на месте. Я оставалась у себя в углу, тесно вжавшись плечами и задом в стену, выпятив губы, вперед сосками и тугими завитками на опушке влагалища. Всё, что стремилось вперед, жило изначальной жизнью, в особом ритме, не имеющем никакого отношения к царившей у меня в сердце безмятежности. В считаных узких, деятельных, уязвимых зонах сосредоточилась вся насыщенность жизни, странным образом контрастируя с пустотой мысли и глубинной недвижимостью моего тела. Именно так, сдается, на совершенно безвидной поверхности Земли скучилась горстка оазисов, несколько перенаселенных дельт, наперечет точек средоточия всей человеческой алчности, всей свойственной людскому роду ненасытности, его неизбывной склонности к голоду и истреблению... До чего странен сам принцип любой женской структуры! В самом деле, одному Богу ведомо, насколько сладостен был мой подернутый деликатной влажностью рот, насколько благотворным мог показаться его жар и насколько были наделены способностью любить мои губы. Что же до грудей, до влагалища, им была свойственна глубокая нежность того, что ждет, затаившись в грезах. Я могла их коснуться: пальцы исчезали в их бесконечной сладости, как теряется