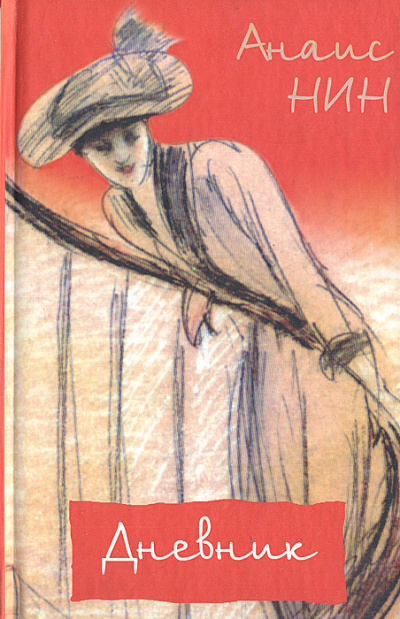Цеце - Клод Луи-Комбе
С тех пор как мои черные губы отведали ребенка, я не могла больше спать. В берлоге тысячи складок полыхнула радость. Плоть развернулась. Вышла из той не знавшей образов грезы, в коей жила доселе. И впредь уже не в моих силах было ее забыть. Всё, что я могла, — попытаться как-то обуздать неудержимую страсть к обладанию, которая при этом развивалась, сдержать ее, чтобы ее усилить, ограничить, чтобы подкрепить ее притязания.
В этом и заключалась одна из сторон той мысли, о которой я уже упоминала, мысли, которую я не переставала углублять, даже избавляясь от любой мысли: научись, научись же наконец желать.
Конечно, эта мысль обращалась не только к тому, что вершилось под сенью паха. Точно также она затрагивала и другие инстанции радости — рот и груди. Но что касается рта, я уже говорила, какой путь отказа предпочла ему навязать, останавливая на расстоянии от него поставляющий пищу жест, неотступно преследуя тишину среди изобилия слов. О грудях поговорю позже и расскажу, как отразилась на них дисциплина дыхания. А сейчас нужно упомянуть о том, как я выстроила отношения со своим интимным органом, когда мимолетное отсутствие ребенка оставляло меня в одиночестве в своем угловом застенке, совсем одну, совсем голую (какою только и может быть любая Мать, вознамерившаяся возвести свое материнство к высотам мистики).
Застывшая в полном одиночестве у подножия стены, стоящая в углу, как на фрагменте креста, одна-одинешенька в гуще своей женской и материнской наготы: такова та, кто готовится. Можно было бы счесть, что мое ожидание — чистая пассивность в перспективе возможной расплаты — упасть в обморок от истощения, умереть не сходя с места или узнать, что ребенок больше никогда не вернется. Можно было бы счесть, что я просто-напросто отдаюсь на волю случая, будучи так или иначе бесконечно превзойдена сложной игрой причин и следствий, в результате которой испокон веков пребываю здесь, с дрожащим от желания ртом, с горячечным телом, с чревом, которое требует изнутри меня пищи — единственной пищи, что наполнит его навсегда, но на самом деле такой пищи пока не существует, она разве что вызревает вдали, но, в ожидании, мое чрево испытывает голод по чему-то совсем иному, нежели обычное пропитание, оно вваливается, оно углубляется, оно превращается во вместилище, обиталище, дарохранилище. И я осознаю сию скрытую работу, вершащуюся в укромье моего существа, у меня во рту и в паху. Происходящую через приглушенные вибрации, биение артерий, пульсации. Если внешне я кажусь пассивной, если выгляжу у подножия своей стены беспомощной и словно раздавленной, то лишь потому, что вслушиваюсь, целиком на нем сосредоточившись, в ропот своего существования. Но не стоит доверять видимостям. Из моего кажущегося безразличия не надо делать вывод о каком-то там отказе от человечности. Ибо я все-таки тут, до жути тут. Я живу на огромной высоте. Живу в огромном напряжении. У меня есть рот. Есть пах. И в их неизбывной солидарности вызревают события ни с чем не сравнимые, из тех, которые невозможно заподозрить, поскольку они бросают вызов Истории. Вызревают в крови, лимфе, в костном мозге. Вызревают в глубине. И я могу находиться где угодно, делать что угодно, не имеет значения — они всё равно зреют. Если я остаюсь здесь, если даже не считаю нужным одеваться, причесываться, умываться, если днями не ем, не разговариваю — дело в том, что именно здесь, в полумраке, в уединении и тишине, всё куда интереснее. Интересующие меня вещи наделены необычайно богатым присутствием, нет ничего более чуждого моей радикальной скудости. На самом деле, нужно жить у подножия этой стены, у подножия этого креста, чтобы понять, чем могут быть рот матери и ее влагалище — и какие странные и постоянные отношения они поддерживают друг с другом. Нужно быть нагой, причем наготой не только поверхностной — как у снявшей одежды женщины, — наготой не только плоти, но и той, что является внутренней предрасположенностью и как бы одним из основных качеств всего существа. И тогда вагина, например, оказывается чем-то совсем иным, нежели просто органом тела.
И, вслушиваясь в ее прозябание, я чувствую, как она движется к своей полноте. Чувствую, как она возвышается внутри моего тела до самой души и в меня погружается, — я хочу сказать, погружается вплоть до того я, каковое является не чем иным, как абсолютным внутри. И тем самым чувствую себя отверстой до самых корней своего бытия, в которых открывается вся головокружительность отверзания — и в связи с которыми на память неминуемо приходят образы пучин, кромешных ночей, бездонных морей, миров без опор, падения всех вещей. (Ну разве можно поверить, что я стою у подножия стены, что я прочно утвердилась у подножия своего креста, когда я беспрестанно падаю вместе со временем, которое отпадает, со временем, которое проходит, и со всем, что отпадает, со всем, что проходит!) Проходом для всего, чьей сутью является проходить и теряться, и служит мое влагалище, и служит мой рот. Их полнота смыкается с небытием. И преследующее их желание — это призвание к бездне.
Призвание. Я понимаю его