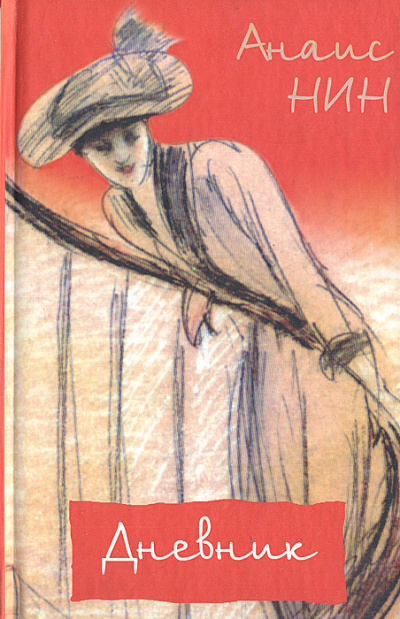Цеце - Клод Луи-Комбе
С каких-то детских времен я долго хранила совершенно особую привязанность к жасмину, чей пьянящий запах волновал меня удивительным образом. Но в период, о котором идет речь, я уже давно порвала со всеми цветами. Тем не менее, вдыхая, ведо́мая своим желанием, то, что доносилось из высоких трав моего тела, я открывала новую глубину опыта, в котором всё, что я знала — или думала, что знаю — об ароматах, оказывалось безнадежно устаревшим. Ибо через собственные запахи я ощущала не что иное, как рассеяние, по-своему материальное, желания и радости — и приятие вершащегося при этом пространства. К этой стороне реальности чуток был и ребенок. Когда он наклонялся надо мной с округлившимися от удивления серыми глазами, словно засасываемый парадоксальной податливостью и подвижностью линий в постоянстве и инертности моего застывшего в стойке тела, я видела, как у него подрагивает лицо и раздуваются крылья носа, я чувствовала, как он наполняется окутывающим меня женским запахом, заполнявшим пространство передо мной всеми роскошествами желания. Чувствовал ли он, насколько по сути злокознен сей материнский аромат, запахи, которые не под силу исправить или исказить никаким ухищрениям и которые грубо, без тени стыда, заявляли о власти плоти, открытой при всей своей затемненности к алхимии поглощения и растворения? Чувствовал ли, сколько прожорливости крылось на самом деле в простом запахе любящей матери — и насколько беспощаден был мой аппетит?
Чувствовал? Или не чувствовал? В любом случае, было слишком поздно. С самых первых дней уже было слишком поздно. Процесс, запущенный в укромности яйцеклетки и выталкивающий новое существо наружу, был лишь приемлемой гранью — призванной обмануть маской — другого, на сей раз скандального, нестерпимого: процесса водворения на место. В питавшей его любви ребенок нес и крепил собственное отрицание. Пока он мирно рос под восхищенным взглядом матери, каждый шаг вперед оказывался в то же время и шагом назад. Каждое из его завоеваний оборачивалось поражением, ведь если на первый взгляд казалось, что он выходит на свободу и простор, в действительности ребенок с каждым днем становился чуть более связан с абсолютной реальностью Матери, которой достаточно было стоять у стены, у подножия креста, чтобы там пребывал и ребенок, — и не было другого горизонта, другого смысла в жизни, нежели чем находиться там, один на один, лицом к лицу с материнскими сосальцами, другой судьбы, нежели чем изо дня в день уступать их рвению. И тогда ребенок вопил мама! мама! — и в его крике на равных смешивались радость и отчаяние, что еще скажешь об этой стене в форме креста, я касалась земли, то было его лицо, это его тело прижималось к моему, земля была нежна, ее округлость податлива, мне оставалось только в нее зарыться.
Сегодня ребенок (если можно так выразиться...) тут, целиком у меня под рукой, настолько опустошенный от самого себя и сведенный к простоте исполненной сладостной теплоты вещи, что я с трудом улавливаю, что происходит между нами. В совершенной непрерывности времени нет ни одного действительно заслуживающего внимания события, ни одной выбивающейся из ряда вон точки. Наше сосуществование, особые формы, которые приняла наша любовь, — всё это погружено в повседневность. С того расстояния, на каком я пребываю сегодня от этих начальных мгновений, всё сливается в единую кривую, без повторов и помарок. На моей памяти нет ни одной морщинки. Запас связанных с действиями слов не пробуждает в ней ничего конкретного. Донести что-то она, скорее, могла бы в терминах состояний — пусть даже это будет неощутимый переход из одного состояния в другое, — например, каким образом из пылкой матери, какою была поначалу, я превратилась в существо, вкладывающее всё свое очарование, все способности к обольщению в собственное бесконечное терпение, в свою непоколебимую настойчивость, в единственное желание добиться поставленной цели.
Я столкнулась с вроде бы естественным порядком вещей. Ибо очевидно (но на чей взгляд?), что ребенку в принципе суждено пережить мать; что та не может понемногу не угаснуть, в то время как ребенок, становясь всё сильнее, породит в свою очередь... Но эта нормальная сторона мира вещей не имела никакого отношения к моей страсти. Законы природы не имели ничего общего с законами моего желания. Я же была не просто одной из матерей — их и так предостаточно в мире, чтобы обеспечить продолжение рода и вырастить прекрасных детей, которые в один прекрасный день закроют им глаза и препроводят на кладбище. Я — Мать как таковая. Мой рот — не просто какой-то там рот, а Рот. Он живет сам по себе и бесконечно надо мною властвует — точно так же, как и мои груди, Груди, и моя вульва, Вульва. Они существовали сами по себе и меж собой. Они жили как вельможи — так жили, говорят, в царствах нашего детства людоеды и людоедки. Я же — то, что, упорствуя, так себя называет, — я лишь смиренная прислужница их власти и не принадлежу себе, а живу в тени их желания — о, сокровенно, настолько сокровенно, до того скрытно, что порой оказываюсь на грани забвения самой себя.
Перед лицом такой судьбы смехотворны все материнские нежности. Щедрость, самоотверженность, самопожертвование, таланты утешительницы — все качества, свойственные хорошим матерям, всё это, как и почитающие их обычаи, перед лицом того, чем я притязаю быть, оказывается плоской шуткой и не заслуживает даже улыбки, даже мановения мизинца.
Да, мне даны губы, и они чудовищно сладостны. И в изобретательности ощупываний, ласк, сосания превосходят все потуги эротической прозы. Всё потому, что они далеко зашли. Очень быстро сумели выйти за пределы эпидермы. Силой сладости прорвали поверхность и вошли в живое. Губы лица и губы вульвы равно преуспели в обладании. Не знаю, каким гением-завоевателем были они одержимы, но он хотел крови из каждой ранки, плоти от каждого укуса.