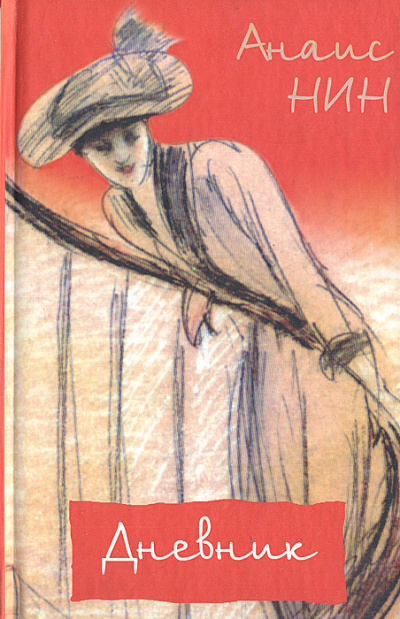Цеце - Клод Луи-Комбе
Мне не хотелось бы превозносить свою прозорливость. И тем паче наводить на мысль, что она вытекает из предельного упрощения жизни, из неизбывной скудности моих занятий. Ну и наконец, прежде всего не надо думать, что в ней нет изъянов и недочетов.
Моя прозорливость проявляется задним числом. В пережитое мгновение, когда мое рыльце само по себе вершило свое призвание, я совершенно не понимала, чего хочу, и с трудом — то есть всегда с некоторым запозданием — улавливала, что со мной происходит. Одна часть, освещенная и сознательная, всегда гналась во мне за другой. Цели, которые я, того не зная, преследовала, прояснялись в моих глазах, лишь будучи пройдены. Тем самым уже на уровне исходных решений я сталкивалась с трудностями, знакомыми по той поре, когда мне приходилось говорить с другими: слова, доходившие до моих ушей, оказывались звуками и еще долго оставались таковыми, прежде чем обрести смысл. Когда говорил другой, почва всегда уходила у меня из-под ног. Требовалась небольшая отсрочка, чтобы на фонетический хаос, в который меня погружала любая беседа, пролилось немного света. Когда же свет брезжил, другой уже исчезал, и я оставалась одна. Именно так я мало-помалу пришла к уединению и с тех пор с жуткой преданностью его придерживаюсь, с головой погружаясь во все свои начинания.
Что касается моей прозорливости, ограничусь упоминанием одного факта, ибо он оказался чреват последствиями и, послужив отправной точкой моего решительного поворота в отношениях с миром — я хочу сказать, с ребенком.
Так что возвращусь к ключевому моменту, о котором уже упоминала: к мгновению, когда ребенок начал в меня втекать.
Прежде всего пришел вкус — если можно назвать таковым сладковатую пресность, наполнившую вдруг мне рот, когда мой язык, по обыкновению, барахтался в пупочке крохотного тельца. И ощущение чего-то нового, как бы капли неопределенной текучести, более близкого к жидкости, чем к твердости, но несомненно отличного от изобильной слюны и других умягчающих соков, которые я изливала и снова сглатывала, продолжая сосать. Нет. Никакого сомнения, эта столь близкая мокроте невыразимая субстанция не имела ко мне никакого отношения. Она не изошла у меня из носа. Не подступила к горлу. Возможно, никогда еще влага у меня во рту не была в сравнении с тем, что я лелеяла теперь между языком и небом, что раздувало мне щеки, настолько чистой, настолько легкой, настолько текучей. Я отнюдь не выцедила эту мягкую и пресную плотность безымянной реальности из массы своих размечтавшихся желез. Она пришла ко мне от ребенка, тут не было никаких сомнений, и от этого становилась только страннее. Такою странною, что вызванная ею радость оказалась как бы обуздана и не способна испустить рев, предуготовленный где-то в глубинах утробы, как будто торжество любви оказалось отложено на потом из-за моего изумления, что я зашла так далеко.
Обычно, из своего рода естественного благочестия, а также стараясь сохранить в себе питающее внутреннюю жизнь отсутствие форм, я не открывала глаз на протяжении всего церемониала сосания. Такое поведение, впрочем, лишь поощряло меня в гурманстве, скапливая на губах и языке всю мою жизненную энергию, всю страсть.
Но в тот день счастье было слишком велико, я не ожидала, что оно достигнет подобной точки. Оно охватило меня за почти машинальными действиями, какими может обернуться любой ритуал, любая молитва, слишком часто черпая поддержку в повторении. Оно вошло в меня с неистовством, к которому я не была подготовлена, словно единственным горизонтом наложенной мною на себя аскезы служило удовольствие, присущее покою, безмятежности или хотя бы размыванию конфликтов. Оно вспыхнуло в предельном напряжении всего моего существа. Оно прорвалось у меня в мозгу и прерывалось в чреве. Потрясены оказались самые темные устои моей плоти. При воспоминании об этом мгновении я всё еще ощущаю абсолютно небывалый трепет, который охватил меня целиком и долго, не знаю, сколько времени, затрагивал все внезапно разобщенные элементы моего тела, такие как мышцы, нервы, кости и сухожилия, суставы и сочленения, конечности и внутренности. Мой организм оказался словно распылен изнутри чудовищным напором радости, он рассыпался вне и вдаль от себя анархической, истерической кавалькадой мелких сущностей, чье существование было лишено всякого смысла, фрагментов, сегментов, частей и кусков, ставших жертвой разрозненных потрясений, — внезапно одержимых трепещущими случайностями осколков тела (моего).
Трудно вспоминать об этой череде мгновений. Как выразить их от первого лица, когда именно я оказалось раздроблено, распылено во множественности, без связи, без смычки, отношений, поддержки? Я больше не существовало. С утратой контроля, с распадом единства осталась разъятая на частицы реальность, некогда женщина, некогда мать, некогда я... Но я всё еще говорю об этом слишком непринужденно: срабатывает иллюзия памяти, вернувшей свою систему координат в отвесное положение. В то мгновение сказать мне было нечего: всё, что было, — жидко-тягучая,уже не детская пресность и женско-материнское ликование, ворошившее свое решето в ошарашенной плоти.
Потом (но когда?) появилась ослепительная черта, что-то вроде молнии, словно от вонзенной в глаз длинной иглы: поднялись веки, выпуская из тени ресниц всё исступление взгляда. Там, где нежно копошился такой сдержанный в тот момент язык, таращился черный кругляшок глаза.
Ракушки навыкате (теперь я могу сказать об этом со всей безмятежностью и уверенностью), мои глаза и пупок ребенка раскрылись в упор друг на друга.
Я не привыкла разбрасываться своим взглядом. Там, где он, при всей редкости подобных случаев, всё же задерживался, ему удавалось проникнуть очень далеко. Не пытаясь охватить просторные горизонты, он погружался в самую сердцевину ограниченных и точных мелочей. И тут, исторгнутый избытком радости из оцепенелости внутреннего созерцания, он прямо-таки ринулся на столь деликатную часть тела, пупок ребенка, из которого и пришла наполнившая мне рот пресная густота.
Да, в какой-то момент я взглянула, я всмотрелась — пока в других зонах пространства плясали, каждый в полном уединении, отдельные фрагменты (моего) тела.
Я взглянула. Через отверстие в животе смогла заглянуть в ребенка. И увидела изысканную галерею, выщербленную моими поцелуями в пупочных складках: вздувшиеся, растянутые, пунцовые ткани разорвали стянувший их узел. Что-то сцеживалось из интимной органики ребенка, из