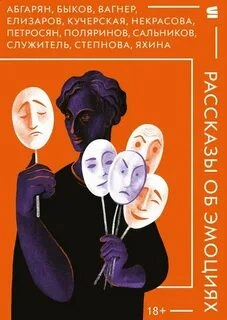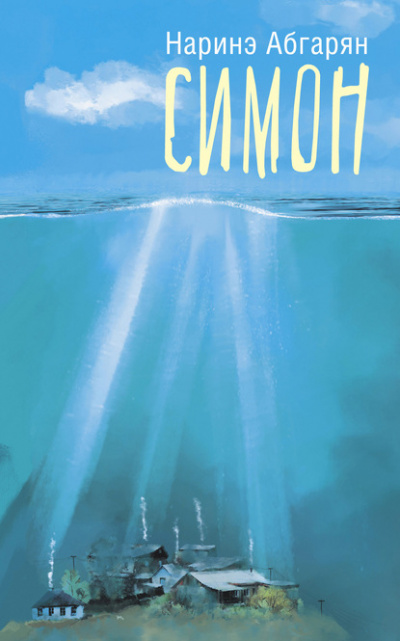Рассказы об эмоциях - Марина Львовна Степнова
Он возвратился в комнату, задернул штору и открыл ноутбук. Свернул окно с недоигранной партией в «Цивилизацию», ленту «Букфейса» и переключился на Word. На экране чернело заглавие «Воцарение грядущего хама». Гущин крепко стиснул голову ладонями, так что очки съехали на лоб. Он никогда не похмелялся, пока не напишет страницу текста, которым останется доволен. Сгущенный мрак на душе, неверный бой сердца, траур в утомленном мозгу отзывались в нем той болью, которую он считал подлинной и без которой, по его мнению, не имело смысла садиться за письменный стол. Именно в такие утренние часы («Время у Господа на приеме», как их назвал много лет назад однокурсник Гущина по Литинституту Сема Штейн), в такие часы, когда душа панически металась из угла в угол, когда вся она трепетала слабым листиком на осеннем ветру, тогда слова выливались из него как бы сами собой, полновесные, правдивые, обеспеченные, как он считал, золотым запасом. Гущин прокрутил текст до страницы четыреста двадцать четыре. Сквозь щель в плотных шторах пробивались лучи и был виден кусочек ясного неба. Он настрочил с нового абзаца:
«Похмельный скорбец разливался по рыхлому серому небу. Безнадежный ноябрь. Хилые деревца и крыши авто покрылись перхотью первого снега».
Гущин облизал губы, прищурился и вытянул шею, словно медиум, ощутивший в комнате присутствие духа. Он поймал вдохновение и теперь не собирался отпускать его до первой банки пива. Он продолжил:
«В глазах старика-водителя было что-то прогорклое, сугубо русское, казалось бы, утраченное навсегда, но в выскобленных морщинах его лица все еще таилась хморь пращуров. Слова он не проговаривал, а цедил. И мысль его обнаруживалась не в словах, а в паузах между ними».
Гущин сперва добавил: «В немых дремотах между разговорами, в сокровенных цезурах раскрывалось все существо честного старого человека», – но подумал и удалил предложение. Он хрустнул пальцами, вытащил из мягкой пачки покривившуюся сигарету и прикурил ее, повторяя про себя последний абзац. Дело пойдет.
«Теперь уазик ехал мягко. Дорога здесь была уже верная, гладкая. И Днова это удивило: бои прошли здесь только пару недель назад, но уже успели положить новый асфальт. В бардачке, завернутый в промасленную газету, стыл дедов наган. Висячие фестончики на красной ткани, растянутой над лобовым стеклом, весело плясали в ход машине. Днов достал пистолет из бардачка. Развернул зубами. Посмотрел на его ствол – убедительный, терпкий, всезнающий. Днов прикрыл усталые глаза и вышептал нагану всю свою жизнь. И наган понял его, и наган согласился с ним.
На обочинах то и дело попадались груды искореженной техники, в мокрых полях возвышались сожженные остовы боевых ходунов. До границы оставалось шесть километров, но в воздухе, как будто слегка пожелтевшем, уже чувствовался жестяной привкус – верный знак, что биодиджиталы совсем близко. Здесь Бог – там дьявол. Здесь правда, там ложь. Все просто. Все как всегда».
Гущин выпустил дым, задумался и настрочил:
«Через небо возвращались на Родину облака. Возвращались взволнованными стадами. И коровы в приземистых стойлах, там, далеко внизу, поднимали свои головы и тянули выи, и печально приветствовали кучевых и перистых репатриантов».
Гущин благополучно проработал час, пока в соседней квартире не завыл пес. Это был щенок породы хаски, которого хозяева оставляли на весь день дома. Гущин запустил дрожащие пальцы под очки, помусолил переносицу и попробовал сосредоточиться:
«Суглинистый овраг, змеясь, пересекала сонная павна. Вдалеке уже виднелись ходуны беспамятных. Они шарили по холмам и низинам широкими сиреневыми лучами. Выпь заголосила в березняке. Только бы успеть. Ах, только бы успеть. Днов спрыгнул на плотик и, оттолкнувшись от берега узловатой корягой, поплыл вниз по тихому течению. Где-то через полтора километра должна была начаться стремнина, потом первые пороги. Но вдруг…»
Собака за стеной, как будто почуяв, что рука у Гущина, что называется, расписалась, нарочно завыла еще громче и протяжнее. Он зажал уши и попробовал сосредоточиться. Но не смог. Он забыл, что именно пришло ему в голову. Кажется, Днов кого-то заметил на берегу. Нет. Тогда пусть до него дотянется лазерный луч ходунов. А лучше пусть Днов увидит прямо над собой вражеский дрон. Нет, не вражеский, свой. А лучше сразу два дрона, и свой, и чужой. Точно, лучше пусть он наблюдает за воздушной дуэлью двух дронов. Или… Собака заскулила трагическим тенором. Гущин не выдержал, ударил кулаком по столу и отправился на кухню. В коридоре с притолоки на него сурово взглянул Спас Нерукотворный, чей образ мама в прошлогодний карантин повесила напротив входной двери: во-первых, чтобы предупредить вторжение воров, во-вторых, чтобы отвратить от дома ковид. Гущин открыл холодильник, погладил ледяную шубу и произнес шепотом: «Подросла». Он вытащил чекушку, сжал ее обеими ладонями. Руки свело от холода. Он открутил крышку, закинул голову, и тягучая жидкость медленно полилась в рот. По телу благовестом стали расходиться теплые волны. Стези прояснились, туман рассеялся. Даже собака притихла. Или он просто перестал ее слышать. Он достал из упаковки сардельку и, не разогревая, тут же слопал ее. Подумал и слопал вторую.
Гущин вернулся к компьютеру. Уже восьмой год он работал над эпосом-триптихом о воображаемой войне между хранителями и беспамятными. Роман назывался «Виждь». Он заканчивал второй