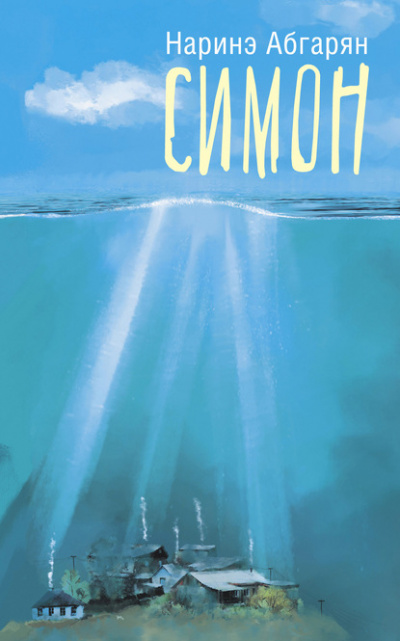И было это так - Лена Буркова
Мглистая дорога внушает страх и благоговение, но, вопреки внутренним невысказанным сомнениям, притягивает нас магнитом. Околдованные громкой песнью цикад, мы с Богом безропотно повинуемся зову, но отправляемся вовсе не в горы (еще не время, нужно подождать каких-то пять или шесть десятков лет, исполнить свои мечты, прожить один земной срок), а спускаемся вниз, к грохочущему берегу, вбирая в легкие плотный предгрозовой воздух.
Остывающие ступени крошатся под нашими ногами.
Ржавые перила, облепленные бесчисленными улитками, раскачиваются из стороны в сторону, предвещая неистовую бурю.
Трещат растревоженные верхушки деревьев.
Не сгибаясь под напором усиливающейся стихии, бок о бок, мы упорно и неотвратимо сворачиваем с протоптанной тропы в глухие и тусклые заросли, руками раздвигаем корявые ветви, поскальзываемся на плоских камнях в размытой земле, продвигаемся сквозь причудливое кружево кустарников, перелазим замшелые пни, режем голени, запястья, переносицы о вьюнок и сухие сучки, обжигаемся загрубелой крапивой. Утомленные и умудренные, износившие одежду в ветошь, раненые предыдущими жизнями, выходим на дикий пляж и приближаемся к темной воде.
Галька хрустит.
Соленый ветер теребит футболки, взбивает прибой в пушистую пену.
Мы садимся, скрестив ноги, и бесшумные тени замирают вместе с нами.
– Чем займешься завтра? – спрашивает Бог.
Небо низкое, фиолетово-синее, густое, как черничное варенье. Вероятно, проснусь в своем городе и в своей кровати?
– Вероятно.
Слезы размывают горизонт, превращая сизое побережье в танцующий калейдоскоп. Вероятно, ни о чем не вспомню?
Бог молчит, не отвечает, и мне становится невыносимо грустно. Почти больно. А вдруг (пугающая и ревностная мысль, щемящая тоска от близости расставания), вдруг каждый однажды с ним встречался? Вдруг каждый был спасен от гибели, избавлен от воспоминаний, отпущен налегке – в точно таком же виде и все же неуловимо изменившимся, постблокадным и реабилитированным? Вдруг каждый был обречен на поиски кого-то похожего, смутно знакомого, жесты, шутки, оттенки смеха, походка, острые или покатые плечи, мужчина или женщина – кем он на самом деле является, каким именем себя называет? Спиной ощущать его присутствие, когда стоишь на крыше высотки, сминая пальцами потухшую сигарету; видеть краем глаза полупрозрачную фигуру, склонившуюся над скулящим щенком, выброшенным в пропасть неотапливаемого подъезда в коробке из-под принтера; останавливаться посреди пустынной улицы, услышав в спящем сквере эхо упругих шагов; в толпе, лавируя, оббегая, задыхаясь, догонять ту самую фигуру – и безнадежно ошибаться; писать рассказы, повести, романы в сущности только для одного читателя, не оставившего ни номера телефона, ни электронного адреса, ни почтового индекса, но пропавшего без вести на таинственных кромках безызвестного моря; в неспокойном сне протягивать открытые ладони, нашептывая на грани бреда и яви, в тумане, в мороке, в невесомости: «Узри же, шагни же, прими же, где и в ком тебя искать, на какие реальные и чумазые вокзалы держать путь, чтобы еще один день или даже два провести подле?»
Мы провожаем угасающий день в молчании, у нас еще есть время.
– Чем займешься завтра? – спрашивает Бог.
Чем я займусь завтра? Избавлюсь от пустой коробки из-под пиццы. Постираю постельное белье. Найду контакты годного психотерапевта, который назначит мне еженедельные сессии и ежедневные антидепрессанты. Нужно же с чего-то начать новую жизнь.
– Неплохой план, – одобряет Бог, и голос у него хриплый-хриплый.
«Фшш-фшш-фшш», – бормочет взволнованное море, ударяясь о гигантские валуны, испещренные желудевыми моллюсками и застывшие здесь еще в незапамятные Адамовы века. Крещеные ледяными брызгами чайки качаются на высоких волнах, подпрыгивают, взмывают над толщей, кричат вместе с далекими раскатами грома, оседают белыми пятнами на черные мокрые коряги, выброшенные штормом на берег. Я устремляю взгляд на осунувшегося Бога, на его жесткие поредевшие кудри, терзаемые окрепшим ветром, – и с горечью замечаю, что они стали совсем седыми. Не отдавая себе отчета, прикасаюсь к упрямой белой пряди у лба, нежно и осторожно провожу холодными пальцами по глубоким морщинам и проступившей жилке на хрупком виске, кожей рук впитывая пар, рассеивающийся за рубежом ярко очерченных губ.
– А ты? – часто-часто моргаю я. – Чем ты займешься завтра?
С юга-востока тянет сырой древесиной, можжевельником и водорослями. Диким зверьем воют воздушные потоки, льнут студеной влагой к покрывшейся мурашками коже. Щеки вдруг становятся обветренными и солеными, словно тысячи океанов омыли мое лицо – и схлынули, спасая и отступая.
– Соберу окурки с пляжа, – отзывается Бог.
«Грр-грр-грр», – рычит море. На холсте вороного неба серебряной гирляндой загораются первые звезды, образуя диковинные орнаменты. Луч далекого маяка освещает разъяренный шельф. Из-под ревущего полотна испуганно выглядывают обломки побежденных волнорезов. Мурлыча под нос балладу собственного сочинения на давно утраченном человечеством языке, Бог смотрит на чаек и улыбается.
Песни Бога, похожие на мои прошлые и будущие песни
(странное и сверхъестественное совпадение)
Песня
о том, как опасно молоть чушь: она может исполниться и ткнуть в глаз – и не только ткнуть, и не только в глаз
Ой да ой, Алина-малина, помнишь ли детство наше беспечное, в котором мы лежали под пологом из снежного тюля, прикасались к тонкой ткани босыми ногами и в узорах причудливых ненароком разглядели будущее свое?
Ой да ой, Алина-малина, видишь ли, как мы подмигивали многозначительно, как смеялись заливисто, как проговаривали грядущие приключения, по глупости считая себя взрослыми, находчивыми и разумными – и предсказывая боль свою?
Ой да ой, Алина-малина, спустя столько лет, спустя тысячу зимних курток, икеевских коробок, съемных квартир, бывших работ, друзей, любовей, помолчишь ли со мной рядышком, насыплешь ли мне полный карман соленых семечек, пройдешься ли со мною неспешно до Нылги€[7], чтобы постоять на деревянном мосту, нависши