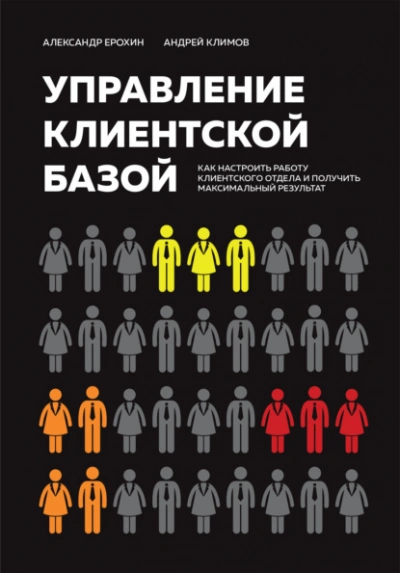История карфагенян - Вернер Хусс
Не пытаясь сейчас исследовать социально-политическую структуру Карфагена (это уже сделано другими), подчеркнем лишь следующие моменты. Карфагенское общество представляло собой сложную пирамиду, в самом низу которой находились рабы, а венчали ее карфагенские граждане, сами состоявшие из двух ясно очерченных социально-политических групп — аристократии и «простого» народа. Но, несмотря на наличие этих двух групп, в целом гражданский коллектив противостоял всем остальным категориям населения республики. Он был довольно замкнут и не имел над собой никакой верховной власти, кроме исходящей от него самого. И даже в тех случаях, когда источником власти оказывались не выборы, а, скажем, наследование, нельзя говорить о внешней силе, противопоставленной коллективу, ибо и тогда власть принадлежала верхушке коллектива, а не посторонним силам, которые ее навязали обществу. Гражданский коллектив, в принципе, был суверенен, и его верховенство проявлялось в народном собрании, которое теоретически обладало высшими полномочиями. Граждане, принадлежавшие к этим двум группам, естественно, обладали разным имуществом. Однако и небольшая собственность крестьян и ремесленников или мелких торговцев, и крупная собственность карфагенских олигархов являлись частями одного социально-экономического уклада. Ни на территории самого Карфагена (его «хоре»), ни на территориях подчиненных ему финикийских городов не существовало царской собственности, в карфагенской экономике и соответственно в карфагенском обществе не был представлен монархический уклад. Политическим строем государства, за исключением краткого начального периода, была республика. Все это признак полиса. Можно говорить, что в ходе сложных социально-политических процессов, детали которых от нас ускользают, Карфаген превратился в полис. Он представлял собой еще одну его разновидность наряду с эллинским полисом и римской civitas. Недаром Аристотель выделил Карфаген из массы «варварских» государств и включил примеры из его политической жизни в свою «Политику», а его ученик Гиппагор (скорее всего, по поручению учителя) написал «Карфагенскую политию».
Таким образом, карфагенские структуры были монистичны (в отличие от метрополии, где они были дуалистичны). Экономика включала только общинный сектор (не говоря, естественно, о подчиненных территориях). Категории неполноправного населения перешли., в подчинение общине. Самоуправляющийся гражданский коллектив превратился в верховного владыку государства (по крайней мере, теоретически) и осуществлял свою власть через республиканские институты. Итак, в ответ на поставленные вопросы можно сказать, что при сохранении многих черт, унаследованных от восточной метрополии, Карфаген вошел в античный мир, хотя и занял в нем несколько особое положение.
Все это не означало, что политическое развитие Карфагена остановилось. Карфаген не раз переживал периоды острых кризисов. Один из таких кризисов разразился после поражения в первой войне с Римом. Его внешним признаком стала тяжелая Ливийская война, в ходе которой, по сути, оказалось под угрозой само существование Карфагена. Эта война красочно описана Хуссом, который подчеркивает роль в ней Гамилькара Барки, военное и дипломатическое искусство которого фактически спасло Карфаген. Далее Гамилькар отправился на завоевание (или отвоевание) Испании. И там возникла своеобразная держава Баркидов. Не обладая никакими формальными полномочиями, выходящими за пределы карфагенского государственного права, Гамилькар и его преемники сосредоточили в своих руках ряд этих полномочий и осуществляли их совершенно самостоятельно, без оглядки на центральное правительство, во всяком случае, пока одерживали победы. В Испании (и по-видимому в значительной части Африки) под властью Баркидов сложилось новое политическое объединение, обладавшее многими чертами эллинистического государства. В то же время оно не являлось полностью независимым, и в этом было его радикальное отличие от эллинистических государств. Можно говорить о возникновении в рамках Карфагенского государства политических структур эллинистического типа. Появление таких структур в карфагенском обществе и государстве говорит о том, что Карфагенская республика, в принципе, шла по пути античных государств.
Еще более жестокий политический кризис разразился после поражения во второй войне с Римом. Хусс совершенно справедливо говорит о Карфагене того времени как о «клиентском государстве Рима».
В условиях противостояния соседней Нумидии, почти постоянно поддерживаемой Римом, и самому Риму (хотя последнее часто было латентным) гражданский коллектив Карфагена был раздираем ожесточенной внутренней борьбой. Реформа Ганнибала открывала путь к оздоровлению общества, но своекорыстная карфагенская олигархия практически закрыла пути возможного оздоровления, призвав себе на помощь врага. По существу, в Карфагене наблюдаются явления, характерные для греческих полисов в IV в. до н. э. и в Риме во II–I вв. до н. э „т. е. кризис полиса. В греческом мире это завершилось подчинением Македонии, в Риме — заменой республики империей. В Карфагене кризис полиса закончился подчинением города римлянам и его полным разрушением.
Все сказанное совершенно не умаляет значимости труда Хусса. Оно лишь дополняет ту картину политического развития Карфагена, которая столь искусно представлена Хуссом в его книге.
В заключение надо отметить, что все даты, содержащиеся в книге Хусса (кроме специально оговоренных в последней главе), относятся ко времени до нашей эры. В книге В. Хусса не было никаких примечаний. Все подстрочные примечания сделаны переводчиком.
Ю. Б. Циркин
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
На I Международном конгрессе финикийских и пунических исследований, проходившем с 5 по 10 ноября 1979 г. в Риме, Жильбер Шарль Пикар задал вопрос: «Можно ли написать историю Карфагена?» И сам же ответил: для периода, предшествующего сражению при Гимере (480 г.), — невозможно. Я смотрю на это с еще большим скептицизмом: и для времени после сражения при Гимере нельзя написать историю Карфагена, разве что главы к истории Карфагена. Если мой труд и назван «История карфагенян», то причина скорее в следовании традиции, чем в объективном определении. Возможность успешного написания истории карфагенян в ограниченном масштабе зависит от количества и качества сведений, имеющихся в нашем распоряжении для реконструкции этой истории. Не считая эпохи войн, которые карфагеняне вели с римлянами, исторические источники очень скудны. Кроме того, отдельные фазы и отдельные аспекты карфагенской истории отражены в античном предании очень неравномерно. Например, ранняя история города погружена в почти непроницаемую тьму, и только случайный свет падает на внутриполитические отношения. Относительно торговых и политических отношений с племенами и городами Северной и Западной Африки, с островами Атлантического океана, с Пиренейским полуостровом, Балеарами, Южной Францией, Италией, Сардинией и Корсикой имеются лишь побочные замечания. И наконец, огромное значение имеет то, что писавшие о Карфагене античные авторы, чьи произведения до нас дошли, — это греки и римляне, т. е. представители тех народов, которые многократно вступали в сильное