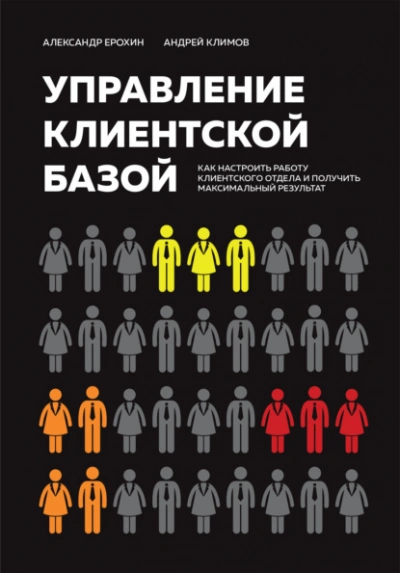История карфагенян - Вернер Хусс
Для уточнения своих историко-правовых концепций Мельцер мог опереться, кроме труда Херена, на работы Ф. Г. Клуге, Г. Вольфа и Г. Кернера. Кроме того, Мельцеру по счастливому случаю удалось использовать первые важные достижения финикийской и пунической археологии. Первые научные раскопки на карфагенской территории провел в 1859 г. Ш. Э. Боле (1826, Сомюр — 1874, Париж), после того как датский консул в Тунисе X. Т. Фальбе(1791, Гельсингёр — 1849, Копенгаген) из-за огромных трудностей отказался от соответствующих планов. После Боле следует прежде всего назвать «белого отца» А. И. Делаттра (1850, Девиль-ле-Руан — 1932, Карфаген), который в ходе более чем 50-летних «неутомимых» раскопок в Карфагене сумел раскрыть многие его тайны.
В XX в. С. Гзелль (1864, Париж — 1932, Париж) поднял исследование истории Карфагена и всей Северной Африки на новую высоту. Его огромные знания почти всегда предостерегали его от поспешных выводов. Все, кто пытался представить общую картину карфагенской истории после Гзелля, смогли в отдельных случаях добиться некоего прогресса, но в целом они не смогли не только превзойти, но даже достичь высот Гзелля.
2. ФИНИКИИСКАЯ ЭКСПАНСИЯ
История архаического периода Карфагена укладывается в историю финикийской экспансии. Но время написания истории финикийской экспансии еще не пришло. Несмотря на все остроумие, какое было проявлено в последние столетия при интерпретации соответствующих литературных и эпиграфических текстов, несмотря на прогресс, достигнутый за последние десятилетия в археологическом исследовании средиземноморских и атлантических поселений финикийцев, остается еще слишком много ненадежного, даже бессмысленного. К тому же еще ни в коем случае не окончен методологический спор относительно доказательной силы археологических фактов для истории ранней фазы той или иной фактории или поселения. Поэтому последующее изложение также может быть только предварительным.
АВТОРЫ
Греки называли носителей самой далекой и самой значительной по последствиям экспансии древности «финикийцами» (этимологическое объяснение этого названия, кажется, еще не найдено). Как эти финикийцы, жители городов-государств, расположенных в основном на побережье сегодняшнего Ливана, называли себя сами, совершенно неизвестно.
Хотя феномен финикийской экспансии часто связывался и связывается с именем города Тира, все же едва ли вероятно, что только представители или граждане этого города преследовали цели экспансии. Но так как Тир с IX в.[1] господствовал над всем финикийским побережьем, включая Сидон, и так как финикийская колонизация в узком смысле в Западном Средиземноморье развивалась только во время политического главенства Тира, то возникла видимость, но только видимость, что Тир обладал монополией на экспансию. В действительности Сидон, кажется, не только в период своего подчинения Тиру участвовал в процессе колонизации, но уже тогда, когда он еще мог принимать автономные решения об участии в экспансионистской политике.
Самое позднее с VIII в. олигархический слой финикийских торговцев обладал сильной экономической властью, а с нею и политическим значением. Поэтому купечество, а не монархия, сила которой убывала, являлось в основном определяющим фактором колонизации.
ВРЕМЯ
Одной из самых спорных проблем, какие финикийская экспансия ставит перед наукой, является проблема датировки. Главным образом это связано с тем, что литературное предание датирует начало экспансии уже XII в., но самые ранние археологические находки в Западном Средиземноморье относятся только к VIII в.[2], а самые древние эпиграфические свидетельства восходят лишь к X в. Однако было бы ошибочным только на основании недостающих археологических находок вести разговор о поздней датировке финикийской экспансии. Тот факт, что археологические свидетельства относятся к сравнительно позднему времени, можно объяснить иначе, чем допущение, что финикийская экспансия началась только в VIII в.
Из рассказа египтянина Ун-Амуна следует, что в XI в. между египетскими и финикийскими гаванями существовало оживленное морское сообщение. Ограничивалась ли эта торгово-политическая активность финикийских городов только направлением север-юг? Это едва ли так. Надо учитывать динамику, присущую всем большим торговым предприятиям. Технические предпосылки для дальнего мореплавания существовали, во всяком случае, уже давно, очевидно, уже с III тысячелетия. И кажется, что финикийцы после нападений народов моря плавали по путям, которые они или их соседи использовали еще до появления народов моря. Таким образом, можно с некоторым основанием датировать начало финикийской экспансии XI в.
СПОСОБ
Финикийская экспансия, по всей видимости, прошла несколько этапов. Если первоначально финикийцы в качестве опорных пунктов использовали гавани других народов, то позже они создавали свои фактории частью на краю существующих поселений, частью в местах, защищенных природой, центрами которых они делали святилища, и, наконец, основывали замкнутые поселения. Из этих поселений они затем проникали, как это было особенно на Сардинии, внутрь суши.
Нет ничего удивительного в том, что от первых двух этапов экспансии едва остались археологические следы. Надо заметить, что первоначально вообще не существовало никаких собственно поселений, что экспортируемые товары — ткани, сосуды, мази, рабы — были по природе преходящими, что фактории и их святилища строились, конечно, из весьма скромных материалов и позже многократно перестраивались. Только третья фаза финикийской экспансии, которая в Западном Средиземноморье началась в VIII, самое раннее — в IX в., может считаться колонизацией в собственном смысле. К этому надо прибавить, что переход от факторий к колониям был плавным. Во всяком случае, VIII в. представляет некую цезуру в истории финикийской экспансии, когда отныне более значительные группы населения метрополии, а также финикийско-кипрского населения устремились в Западное Средиземноморье. Здесь они встретили людей, принадлежавших к различным туземным культурным кругам, и кажется, что они были в целом не берущие, а дающие.
ПРИЧИНЫ
Несомненно, первую пружину финикийской экспансии надо искать в торговле; не без основания этноним Kn'njm в некоторых местах Ветхого Завета означает «торговец». Вероятно, тот факт, что финикийцы были как бы втиснуты в полосу между морем и горами, привел к тому, что они в большей степени, чем израильтяне, стремились к морю. К этому добавляется и то, что они, обитая между Египтом, Месопотамией и эгейско-малоазийским регионом, уже давно узнали о ценности определенных товаров и об известных торговых путях. И у них образовалась, очевидно, определенная характерная предрасположенность, которая делала их способными не оглядываться на опасности, связанные с далекими землями.
Короче, перспективы и выгоды заморской торговли в первую очередь толкали финикийцев к морю. Особенно торговля металлами, и в первую очередь (во всяком случае, в Иберии) серебром, приносила весьма ощутимый барыш. Итак, это ни в коем случае не ассирийское давление возбуждало финикийскую экспансию. Надо иметь в виду, что до правления Тиглатпаласара III (745–727 гг.) Тир не терял свою независимость.
Во всяком случае, вполне возможно, что растущий ассирийский спрос на сырье в VIII в. привел к