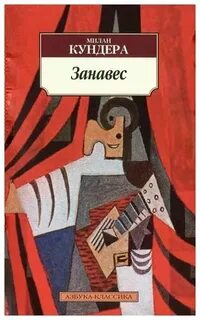Сделаны из вины - Йоанна Элми
Ну и гадость, говоришь ты.
Ты пробовала это сейчас, во взрослом возрасте?
Это невозможно. Для этого тебе должно быть пять лет… И все же я была счастливой.
Я не знала, насколько мы были бедны, пока не выросла.
Теперь мама отправляет деньги из Германии бабушке и дедушке и раздражается, потому что, как ни спросит их по телефону, что они едят, они отвечают: тюрю.
Я им сотни левов шлю, говорит, а они всё на хлебе и воде сидят.
Столько лет у них ничего не было, теперь появилось, и они не знают, что с этим делать.
Лили
Завезут ли теплую обувь на зиму?
Завезут ли хлеб?
Яна, дай бог, чтобы ты никогда не задавала себе этих вопросов.
Моя девочка, девочка, маленькая белочка, напевает папа.
Мама ходит по магазинам, потому что я хочу есть.
Мой беспощадный плач напоминает им об их ошибке — завести ребенка здесь и сейчас. А может быть, и вообще.
Папа кормит меня размоченным хлебом — отрывает корки, разламывает мякиш, остаются только рваные хлебные облачка. Затем он кладет их в горячую воду и ждет, пока они размякнут.
Жизнь покрылась плесенью от нищеты. Они чувствуют ее в еде, в простынях, в обуви, в трубах. Мама терпеть не может дураков, которые болтают о новых гербах и новых национальных словах. У нее свои такие есть.
Смирение
Ей хочется, чтобы папа разозлился и от злости хотя бы чашку разбил. Он молчит, докуривает старые окурки, тупо смотрит на экран, пока она ходит в поисках еды. Когда она кричит на него, он молчит. Она давит еще сильнее. Должно же в нем быть что-то живое, что может бороться. Чтобы боролась не только она.
По телевизору показывают одни и те же прокуренные желтые лица, тела в черных пальто. В квартире появляются чужие люди, от места работы — какие-то друзья его отца, отставники из охранки. И мама и папа знают, что происходит что-то нехорошее, но не спрашивают что. Им неинтересно, у них есть дела поважнее. У них ребенок — надо как-то крутиться.
Она не перестает думать о чашке. Почему он не покажет, что у него есть характер. Выставить этих ментов из гостиной, раз уж он такой революционер. Дверь постоянно открывается и закрывается, я беспокойно кряхчу в тени чужих людей. У мамы очень много молока; она едва достает грудь из посеревшей майки с дешевым кружевом, как вдруг на кухню по ошибке заходят какие-то толстяки в спортивных костюмах. Они брезгливо отшатываются, а она говорит им, что здесь живут люди. Потом вешает старую больничную простыню там, где коридор ведет на кухню: мы спим на кухне.
Еще одно национальное слово мамы:
Нищета
Несущая балка в душе отца треснула. Ему снятся кошмары, там его настигает прошлое. Он не представлял себе ни орущего ребенка, ни свою жену такой: с фиолетовыми жилками на груди, с губами, уже окруженными морщинами, с седыми волосами в двадцать семь лет. Он никогда не представлял себе мир таким.
Она смотрит на себя в зеркало и думает, что это не может быть она. Наверняка тело не ее: чужое, незнакомое. Она не смогла бы прожить ни секунды, если бы это оказалось ее тело.
Третье слово:
Тюрьма
По телевизору показывают, как журналистка застала министра внутренних дел Любомира Начева на конкурсе красоты, в то время как люди убивают друг друга на улицах. Мама не может оторвать глаз от манекенщиц, которые по очереди выходят из-за стола. Длинные, красивые белые тела, блестящие волосы, влажный взгляд, слой косметики на лицах. Одна из них возвращается откуда-то с выпивкой, садится в кресло рядом с министром и начинает поправлять челку, глядя куда-то вдаль.
— Министр подал в отставку, — сказал через несколько дней папа.
Она кормит ребенка, он снова уставился в экран.
— Ну и что? Придет новый, такой же.
Теперь эти девушки, должно быть, сидят где-то еще, думает моя мама, за таким же столом с безвкусной скатертью, а какой-нибудь другой толстяк — хозяин завтрашнего дня, смердящий сигаретами и соленым потом, — собирается легко и без усилий раздвинуть им их идеальные ноги.
3.
Дождь разогнал отдыхающих, которые в противном случае поглощали бы на набережной сладкую вату, пончики, пиццу на толстенном тесте и газировку из огромных стаканов. Даже чайки попрятались. Я слышу, как в соседнем с магазином зале пищат автоматы с играми. Снаружи под навесом остались всего несколько скучающих туристов. Стоят, склонив головы над телефонами, и ждут, пока ливень прекратится. Они похожи на усталые цветы.
Нас четверо. Магазин находится в конце набережной, переходящей в пляж. Мы продаем сладкий попкорн и соленые конфеты — всякую дребедень, как говорит мой дедушка. Рано или поздно все проходят через «Кэндиленд» и покупают пару упаковок конфет или ведерко попкорна. В конце смены растаявшие леденцы, полосы масла и пятна кетчупа, горчицы и майонеза на асфальте у входа напоминают картину Поллока.
Когда работы нет, как сейчас, я смотрю, как в дюнах колышутся травы. Полицейский ушел около часа назад, но я все еще чувствую взгляды у себя на затылке. Еще до обеда о происшествии узнал весь городок.
— Здрасте, — перебивает мои мысли подросток из тех, что слоняются здесь постоянно. Он смотрит куда-то мне за спину. — Какой у вас есть попкорн? Показываю ему на пластиковые ведерки справа.
Здравствуйте! Есть маленькая порция — пять долларов, средняя — семь пятьдесят, большая — десять и джамбо за пятнадцать долларов.
— Ага, — какое-то время он смотрит на ведерки, открыв рот. — А сколько попкорна в джамбо? По сравнению с большой. Примерно.
— Прошу прощения, я не поняла. Могу сказать примерный вес, сейчас, у меня записано…
— Нет, сколько штук, я хочу знать.
— Сколько штук попкорна?
— Да.
— Э-э… Вы не могли бы подождать, спрошу у менеджера?
— Окей, без проблем. — Он уткнулся в телефон еще до того, как закончил фразу.
— Стэн, последишь тут?
Стэн только что зажег горелку под котлом, чтобы перемешать очередную партию попкорна. Я иду в служебную часть магазина, поднимаюсь по лестнице на второй этаж.
Наверху только Алина, жена владельца. Она занята своим обычным делом — рисует эскизы новых конфет и шоколадных фигурок. Все они одинаково нескладные.
— Алина, извини. Там клиент спрашивает, сколько попкорна помещается в ведро.
Она всегда смотрит так, будто ты работаешь на ядерном