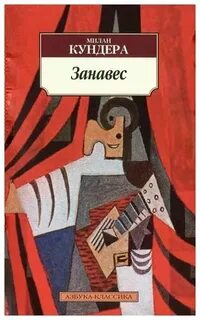Сделаны из вины - Йоанна Элми
Он убирает телефон, и я неохотно выпрямляюсь.
В последний раз, когда мы виделись, я только что получила права и пообещала свозить ее в родную деревню, чтобы она могла посмотреть на свой старый дом. Она много лет просила об этом дедушку, потом дядю, но они ее так и не отвезли.
Волны стали разбиваться о берег как будто только сейчас. В разговор внезапно и без спроса врывается шум океана. Огни за нами гаснут, точно свечи на ветру. Мир меняет кожу.
Я не знаю, скучаю ли я по ним. Мне хочется сказать еще что-нибудь, но ничего не приходит в голову.
Лили
Мама и папа говорят друг другу ужасные вещи. Я совсем маленькая и не понимаю слов, но чувствую тонкие колебания мыслей, похожие на радиацию.
Ребенку нужен отец, а не пьяница;
Мне нужен муж, а не паразит;
Когда-нибудь я соберу вещи, возьму ребенка, сбегу от тебя и больше не оглянусь, слышишь?
Он выбегает вон, хлопает дверью, мама плачет, он возвращается, они ругаются, мирятся.
В круглосуточном магазине на углу знают, кто эта женщина с потным и покрасневшим лицом: она приходит, чтобы купить ему выпивку перед сменой. У него дрожат руки, он не может так пойти на работу, да и что скажут люди, если увидят, что скажут коллеги, что скажут соседи, хорошо, что ребенок ничего не понимает…
В детском отделении, где она работает, постоянно плачут груднички, и у нее от молока намокает халат. Она извиняется, выходит вытереться, сцеживает молоко в процедурном, в туалете, в сестринской комнате, отдает молоко другим матерям. Где вы сейчас, мои молочные братья и сестры? Жизнь — бесконечная стирка халатов с засохшими желтыми пятнами. Никто не говорил ей, что иметь ребенка так трудно. Никто не говорил ей, что у двоих врачей не будет денег даже на подгузники.
Иногда, когда у меня колики и я плачу, мама хочет убежать куда-нибудь далеко и больше никогда меня не видеть.
Иногда она представляет себе, как берет подушку и прижимает ее мне к лицу.
Иногда она оставляет меня плакать часами, лежит, не в силах встать с кровати. Потом искупает вину своими слезами.
Сейчас я сплю. Папа пошел на митинг, потому что услыхал, что там раздают чай и кофе. Они не пили кофе несколько месяцев, а чай теплый, он перельет его в термос, и они сделают мне тюрю. От голода у них постоянно или запор, или понос.
— Чего бы тебе хотелось сейчас больше всего?
Мы втроем лежим на старом пружинном матрасе и греемся.
— Свободы.
Папа смеется, мамины слова часто кажутся ему банальностью. Иногда он говорит, что она как провинциальная поэтесса.
— Свободу на хлеб не намажешь.
Я устраиваюсь между ними. Мне хорошо.
— Дело не в голоде, а в возможности наесться. Если хочешь — объедаться, если хочешь — голодать. Вот чего мне больше всего не хватает. Свободы выбирать. Сейчас я свободна только умереть.
Он обнимает ее, и они дремлют, а мне снятся облака из хлеба.
Папа выходит митинговать за демократию, равенство и так далее. Он говорит маме, что делает это ради меня. Она молчит, твердя себе, что стерпит все — если не ради себя, то ради нас двоих. У нас дома каждый живет ради кого-то другого.
И мама, и папа задаются вопросом, почему все не наладилось после восемьдесят девятого года, как они верили. Почему мир завтра будет таким же пустым, каким был вчера… Папино лицо прямо надо мной, я слежу за его чертами. Он рассказывает сказки о горящих елках на проспекте Царя-Освободителя, о столпах пламени, подпирающих свинцовое софийское небо. О голодной толпе, которая кидает ледышки в богачей.
Разве их волнует, что какие-то шутники бросают в них снежки, спрашивает мама. У них-то жизнь устроена.
Папа приходит домой после студенческих протестов и приносит хлеб и сыр — какой-то старик раздавал их студентам. Отец не съел свою порцию, а еще собрал, что осталось. Тогда в первый и последний раз мама снимает груз всего мира со своих плеч. Но она не смеет признаться себе, что такая легкость ее пугает.
На экране революция безопасна. Показывают арестованных. Их выводят с полиэтиленовыми пакетами на головах. Маме с папой это кажется очень смешным. Они смеются до слез, захлебываются, хватают друг друга за руки, а я машу ручками и пытаюсь им подражать.
Папа качает меня и поет.
Для тебя построен мир из серого бетона…
И придуманы мечты без цвета…
Так оставь же след, пусть знают все вокруг,
что ты здесь, друг
что ты остался,
о да,
ведь ты остался…[2]
Кем построен, думает мама. Они сами придумали эти мечты. Ей все чаще хочется сбежать. Надоело гордиться нищетой.
Папа рассказывает мне на ночь сказки о гвоздике, которую дарят полицейским. Гвоздику приносят на могилы, говорит мама. Папа отвечает, что она циник, и снова рассказывает о грудах камней, о кордонах автобусов и трамваев, о перекрытых улицах, о криках «выборы», «выборы»… об осаде парламента, о том, как депутатов увозят подальше от людей. Журналисты в новостях выходят в прямой эфир по телефону, потому что власти контролируют картинку. Мама не удивляется, когда одичавшая толпа врывается в парламент. Одной пропагандой не наешься.
Все вокруг так голодны. В девяностые в Болгарии даже тараканам нечего было есть, сказала она мне как-то.
Папа убежден, что дальше будет только хорошее.
Мама открывает рот, и вместо нее говорит ее мать: мы уже видели, как нам дали первое светлое будущее, — молись, чтобы не дожить до второго.
Папа не согласен: впервые после стольких стычек и столкновений люди решили вместе бороться за лучшую жизнь.
Мама принимается собирать грязное белье и умалчивает, что главный герой всякой революции — пустой желудок.
4.
— Разве мы виноваты, что вытащили короткую спичку?
Я поехала на работу на автобусе: не решилась сесть на велик. Надеялась, что домой меня кто-нибудь отвезет, но, пока собиралась попросить, все уже уехали. И я отправилась пешком. Не помешает пройтись вечером, а еще и разобраться в своих мыслях. На заправке меня кто-то окликнул; я увидела, что мне машет Стэн. Он отделился от большой компании и побежал ко мне, чтобы уговорить меня пойти с группой болгар на вечеринку. Все собираются у одной семейной пары, иммигрантов в первом поколении. Они живут прямо возле выезда на шоссе, в community под названием