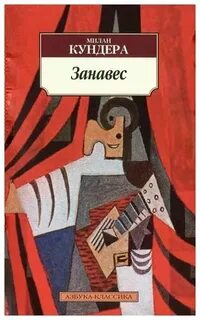Сделаны из вины - Йоанна Элми
Я скучаю по тому, как я уходила из дома в школу в половине седьмого. Раннее утро прекрасно в любое время года. Осенью пахнет опавшими листьями и дождем; зимой слушаешь хруст снега под своими шагами в тишине улиц; снежинки в воздухе превращаются в цветы сливы, весной птицы поют с трех-четырех утра до самого лета, но в Софии их можно услышать только утром, когда все вокруг еще спит.
Я скучаю по тому, как возвращалась из школы. Мы с лучшими подружками оставляли следы из сегодняшних сплетен, роняли монетки хихиканья. Или с мальчиком, который мне нравился, мы ходили по всем переулкам, чтобы там целоваться, потом я провожала его, а он провожал меня, потом все по новой. Я скучаю по волнению от этой тайны, которую мама так старалась выведать вопросами, почему я так поздно пришла.
Я скучаю по тому, как мы бежали из школы и считали последние деньги: хватит ли на картошку фри и мороженое в «Макдоналдсе», часами сидели за полосатыми столиками и искали то же самое ничто, которое оставили на скамейках летом.
Не смейся над «Макдоналдсом», говорю я ему. «Макдоналдс» — это единственное, что мы усвоили из мечты наших родителей о свободном мире. Остальное осталось прежним.
14.
Башня пункта оплаты похожа на маяк в океане асфальта. Мы проезжаем между двумя столбами, разделяющими коридоры; устройство снимает плату и издает писк. Нас окружают грузовики, цистерны, фуры. Дорога качает жизнь в теле Америки. Мы выключили радио, едем вдоль густых лесов. Тишина полная — нет даже рекламы. Вдалеке собираются белые тяжелые облака. Трава вокруг дороги подстрижена, деревья тоже, природа приручена; я где-то читала, что диких пейзажей уже не осталось, человек вмешался везде, он режет, косит, полет, прокладывает тропы. Еще я читала, что две мировые войны неслучайно были по окончании колонизации: мы наконец поняли, что мы узники в этом мире, нам некуда бежать от самих себя, и это довело нас до безумия.
Спустя целую вечность мы отклоняемся от прямой линии на очередной развязке и едем по другой трассе. Тим не пользуется навигатором, он знает дорогу. Вдруг мы возвращаемся в шум жизни. Зеленый цвет по сторонам от нас переходит в серый. Нью-Джерси извергает цистерны и дымящиеся трубы, заводы и башни, металлические леса, провода и огромные дымоходы, сотни тысяч квадратных километров бетона и металла.
— Наверное, так выглядит ад, — бормочет Тим.
Все более броская реклама выдает, что мы приближаемся к городу. Вдалеке я вижу небоскребы.
— Ты когда-нибудь видел рекламу чего-нибудь… нужного? — спрашиваю я.
Он молчит, думает о чем-то своем.
Машин почти нет, мы проезжаем мост, границу между Джерси и Пенсильванией, — подняв ноги — и едем к сердцу Филадельфии.
Теперь мы плетемся в колонне из машин, я включаю кондиционер, пусть борется с горячим дыханием города. Между очередями машин ходит бездомный, он машет руками, говорит сам с собой, смотрит в небо. Для него загруженное шоссе — пустыня, для водителей он — мираж. В небоскребах отражается солнце. Я невольно вспоминаю города Западной Европы с их высокими соборами и башнями старых замков — они были первым, что видел идущий издалека путник. Может быть, этот вид, в котором сотни глаз веками находили утешение от одиночества дороги, отпечатался где-то в коллективном подсознании, и теперь Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон кажутся мне вариациями средневековых крепостей, только из стали и стекла, а небоскребы — храмами новой мировой религии.
Шоссе врезается в плоть самого города, движение не останавливается, Тим ищет съезд, чтобы попасть в сеть улочек Филадельфии. Мы отделены от мира высокими стенами из бетона для шумоизоляции: путешественники не имеют права заглядывать в жизнь местных, они должны пройти через организм города как можно быстрее. Наконец нам удается отделиться от потока и припарковаться. До центра мы дойдем пешком.
— Мне нужно размяться, устал за рулем.
Мы идем по Рейс-стрит, навстречу нам спешат студенты, опаздывающие на лекции.
— Ты учился в университете? — спрашиваю я Тима.
— Да. Сначала на философа, ну, знаешь, я был ребенком шестидесятых, протесты против Войны во Вьетнаме, Восток в целом — все это меня очень интересовало. Мой покойный отец был старой закалки — сыном шахтера, иммигранта из Уэльса. Когда я поступил, он сказал мне, что ждет не дождется, когда я найду работу на философском заводе, — Тим смеется, затем качает головой. — На третий год я сдался и поменял специальность. Бухгалтерский учет. Потом много лет работал бухгалтером, и меня это достало. Жизнь перевернулась.
— Я сказала маме, что буду учиться в Америке. Стыдно было признаться, что просто не хочу домой. Мне стыдно рассказывать друзьям дома, что работаю уборщицей или официанткой. Без обид.
— Не волнуйся, какие обиды. А почему ты не учишься?
— Честно? — Тим кивает. — Я боюсь выбрать не то. Моя мама всю жизнь жаловалась, как она устала, жаловалась на пациентов, на маленькую зарплату…
— Хм.
— И в этой университетской истории есть что-то… не знаю. У меня такое чувство, что мир вокруг меня, — Тим поднимает брови, как всегда, когда я делаю большие обобщения, так что я исправляюсь, — ну хорошо, моя семья, она застыла в своем времени и думает, будто окончить университет нечто выдающееся…
— Никто не говорит, что университет сделает тебя гением, просто определит твою роль в большом механизме. Знание имеет смысл для немногих. Для остальных это просто способ прокормиться, здесь нет ничего плохого.
— Да, но у них по-другому. По-другому. Они считают, что это большое дело. Образование, образование… а реальность иная: ты выпускаешься и работаешь в колл-центре, или ищешь хоть какую-то работу за гроши, или едешь за границу.
Тим задумался.
— Будь помилосерднее. Мир меняется так быстро. Знаешь, после двадцати пяти лет мозг начинает умирать… Еще немного, и ты поймешь, что с нами, стариками, происходит.
Вдалеке я вижу две белые башни, одна с часами,