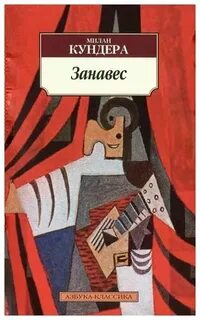Сделаны из вины - Йоанна Элми
— Ни за что на свете не хотел бы сейчас быть двадцатилетним, — вздыхает Тим. — Раньше мир был проще. По крайней мере, мне так думается. Удавалось жить достойно и довольствоваться малым. Высшим образованием, вот, — улыбается он. — Ну хотя бы здесь. А сейчас… Не знаю. Не понимаю, где мы свернули не туда, но я будто моргнул и очнулся в другом месте. А может, просто я уже старик и мне все это кажется… Но вот что точно: музыка у нас была лучше, — отмечает Тим.
Я пожимаю плечами, как бы извиняя его.
С перекрестка Арч и Броуд Тим показывает мне первую пресвитерианскую церковь, основанную через несколько лет после того, как сюда прибыл Уильям Пенн. Мы говорим, что переселенцы бежали из Европы, а на самом деле они просто привезли Европу с собой.
— Когда оглядываешься назад и видишь, как все сложилось, многое становится ясно, — продолжает Тим, когда мы прокладываем дорогу через толпу туристов к ратуше. — Я живу уже больше полувека. У меня есть эта роскошь — время, и могу подвести итоги. Нам казалось, мы самое непримиримое поколение, быть «нормальным» означало «скучным»; мы думали, что навсегда победили расизм и войну. А потом понимаешь, как все то, на что мы тогда не обращали внимания, копилось и сгнивало, и все, что было создано после 45-го, бревнышко за бревнышком разрушилось. Вот до чего дожили, — он машет рукой.
— Ты правда в это веришь?
— Во что?
— В то, что раньше было лучше, а потом вдруг все пошло наперекосяк.
Он одновременно поднимает руки и брови, его глаза еще голубее, зрачки сужаются от яркого солнца:
— Я говорю то, что вижу вокруг. Мне кажется, мы больше боролись. Знали, что зависим друг от друга. Теперь же люди больше сосредоточены на себе.
— А по-моему, прошлое тебе кажется проще потому, что оно прошлое. Как ты говоришь, у тебя есть перспектива. Вот для моих бабушки с дедушкой во всем виноваты коммунисты. У них дома висит портрет царской семьи, все остальные картины покрылись пылью, а его и портрет прадеда они чистят. — Тим смеется. — Когда я была маленькая, я тоже так думала. Мне понадобилось вырасти и кое-что почитать, чтобы понять: зверства одних просто стали зверствами других. В общем, неважно…
Мы переходим проспект Джей Эф Кея, Тим ведет меня вдоль белого фасада ратуши. С вершины башни на свою Филадельфию смотрит Уильям Пенн, его вытянутая рука прямо у меня над головой. В здании играет музыка. Тим тянет за собой, мы проходим через темную арку во внутренний дворик. Музыка звучит все отчетливее, похоже, это виолончель или альт, звук отражается от стен замкнутого пространства и ищет путь в город, все выше и выше по фасаду, извивается, как змея, по высокой башне и растворяется в небе. Из внутреннего дворика ратуша еще больше похожа на сказочный дворец: белые стены и серые крыши, башни с острыми верхушками, окна и греческие колоннады. Вокруг виолончелиста собралась небольшая толпа. Тим присоединяется. Другая часть двора пуста, и я брожу вдоль стен, касаясь их шероховатой поверхности. Мне нравится так делать, я представляю, сколько еще ладоней касалось старых зданий, как мы оставляем память о себе в камне. Узнаю ноктюрн ре минор Чайковского. Ноты гоняются друг за другом, как мыльные пузыри по воздуху. Тим лезет в задний карман и достает телефон. Жест почти бессознательный, машинальный. Все снимают, каждая запись — небольшая кража из настоящего. Мне вдруг захотелось, чтобы это было невозможно, чтобы все просто слушали здесь и сейчас, не отламывая кусочек на завтра или для других.
Я стою посреди двора, в центре большого нарисованного компаса, по краю которого идут золотые знаки зодиака. В синем круге внутри изображены лица двух женщин — может быть, матери и дочери, — а вокруг них что-то вроде колючей проволоки, сверху написано ERES MI TODO. Я делаю шаг в сторону, на золотые весы, чтобы быть внизу изображения.
— Ты идешь? — слышу я голос Тима позади себя. Неохотно отрываюсь от их лиц.
Мы направляемся к старому городу по Маркет-стрит, которая ужасно похожа на Фридрихштрассе в Берлине. У меня чувство, что мы сейчас придем к чекпойнту Чарли: те же высокие глянцевые здания, те же торопливые прохожие, те же пакеты из тех же магазинов. Ничего не меняется: меняются лишь фонетика и мертвецы, чьи имена носят улицы, паутины на картах метро и приветствия, номера скорой помощи, меняется только внешняя оболочка мира, а все другое остается прежним; человеческое видно в шопинге, сплетнях, объятиях, звонках, я возвращаюсь с работы, что купить в магазине.
Поворачиваем на Шестую улицу, где нас накрывает волна туристов, мы тонем в шуме и смехе, двухэтажных туристических автобусах, панамках и щелчках объективов, сандалиях на липучке, нытье детей.
Быстро проходим мимо колокола Свободы, с которым несколько подростков делают селфи.
— Знаешь, даже не факт, что этот колокол звонил в День независимости. Я недавно прочитал, что кто-то сочинил эту историю позже, а затем один историк просто перенес ее в свою книгу, не проверяя, — говорит Тим.
Светловолосая женщина средних лет явно его слышит и смотрит на него враждебно.
— Разве так не лучше? — говорю я рассеянно, по-прежнему глядя на женщину, которая дает свой телефон сыну и встает у колокола. Затем роется в сумочке и достает маленький американский флаг.
— Как?
— Когда есть сказка. По крайней мере люди хоть во что-то верят.
— Хм, верить в бред и выдумки. Посмотри, к чему нас что привело, — продолжает ворчать Тим.
Я пожимаю плечами и зову его уходить, подальше от блондинки, которая бросает на нас все более злые взгляды.
— Я родом оттуда, где люди ни во что не верят, — говорю я. — Никто ничего не помнит или, что еще хуже, все помнят так, как им нравится…
— Не думай, что здесь иначе, — отвечает он.
Мы идем гулять в парк.
— Я думал кое о чем ужасном, — произносит Тим.
— О чем?
— Даже не знаю, стоит ли тебе рассказывать.
— Говори уже.
— Ох… Не знаю, поймешь ли ты. Я из другого поколения…
— Тим, пожалуйста, не вешай мне лапшу на уши. Ненавижу, когда кто-то…
— Да нет, — перебивает он, — дело не в этом. Мой отец был ветераном войны. Он застал Депрессию в детстве. Мать тоже, мир ее праху, они встретились в тридцать восьмом году. У меня родилась сестра, и он тут же поехал в Европу. Потом мы выросли. Мы восстали против наших родителей, не понимали, почему они