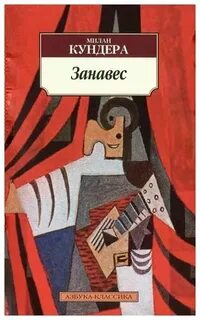Сделаны из вины - Йоанна Элми
Площадь Славейкова пахнет картошкой фри из «Макдоналдса»; запах настолько прочно связан с местом, что рождает воспоминание. Самый повторяющийся аромат в мире всегда вызывает аппетит к книгам, аккуратно завернутым в целлофан с оранжевой наклейкой с написанной разным почерком ценой — в зависимости от стола и продавца. Теперь она идет по Солунской, мимо зоомагазина: по витрине скребут лапами щенки и котята, через дорогу на послеобеденном солнце греются их уличные собратья, ободранные и голодные, но, по крайней мере, свободные. На маленькой мощеной площади бродяги и пенсионеры, переквалифицировавшиеся в антикваров, продают всякий хлам, которым полны кладовки всех стариков: значки времен коммунизма, уродливые фарфоровые тарелки кремового цвета с еще более уродливыми цветами, украшения и губные гармошки, календари, блокноты, партитуры. Влажные и пожелтевшие книги из издательств, в названиях которых обязательно есть слово «народный», — она берет одну книгу, открывает ее, внутри полно больших, толстых слов, совершенная бессмыслица. Ищете что-то конкретное, спрашивает ее старик с желтой бородой, нет, спасибо, она идет дальше, обратно на Витошку и проспект Стамболийского, обратно домой.
Она любит этот серый город с его сотнями бродячих собак и кошек; с городским палимпсестом запутанного прошлого; с собачьим дерьмом на тротуарах и переполненными мусорными баками; с астматическим кашлем старых западных машин, перекупленных дважды, трижды, пять раз; с разбитыми тротуарами, на которых женщины, спотыкаясь, ломают дешевые каблуки, а мужчины матерятся; те же тротуары, где спят бездомные и пьяные в самом печальном из всех миров; где припаркованы блестящие черные джипы, заляпаннные софийской грязью; она любит даже мерзкую коричневую пыль, которая проникает повсюду; любит Витошу, которая, будто крышкой, прижимает всю эту отраву к городу, словно пытаясь убить их всех, как мать, которая боится собственных детей; она любит даже карманников, бродящих, как тени, по трамваям и улицам, в старых троллейбусах и автобусах; даже одичавших от нищеты людей, которые слоняются по городу, точно избитые и покусанные жизнью собаки, готовые зарычать и укусить в ответ. Она любит этот город так, как любят калеку, упрямо, из жалости, но и безусловно, как можно любить только то, в чем узнаешь себя.
Ей не хочется домой. Ее привлекает свет круглосуточного магазина. Она заходит внутрь, покупает все, чего ей захотелось, покупает и сигареты с ментолом — здесь не спрашивают документы. Садится в парке и сидит, пока не стемнеет, издалека смотрит на лица ребят из гимназии, которых она узнает, но которые не узнали бы ее, не позвали бы ее к себе. Она знает, как закончится этот день — под утро, с включенным телевизором и включенным светом, потому что она боится темноты и тишины и не может заснуть. Утром мама придет домой, что-нибудь заметит — девушка всегда умудряется что-то сделать не так — и скажет, что никто ее не любит, она не может ни на кого рассчитывать, никому, кроме нее, здесь ничего не надо; что у нее неблагодарная дочь, которая не может понять, как она устает на двух работах, чтобы содержать ее и выплачивать долги; что она учится недостаточно усердно, что она вся недостаточная, что ей постоянно чего-то не хватает, чтобы ее мать была счастлива; что сама она в ее возрасте была лучше — умнее, ответственнее, заботилась о своей матери; что она слишком шумит днем, когда мать пытается спать, что она нарочно хлопает дверью, когда ходит в туалет, зачем она разговаривает по телефону с друзьями… Потом пойдут обычные обиды с неизменным ты такая же, как твой отец.
И она снова выйдет из дома, глотая слезы, и будет бродить по тем же улицам, спрашивая себя, как она может быть похожа на человека, которого не знает.
15.
Мы возвращаемся к машине, садимся и едем по лабиринту. Из хватки города нет выхода: везде город, город, город. Мы едем на север по Брауд-стрит. Мой взгляд скользит по шахматным фигурам фасадов — белых и старых, черных и новых. После центра стена из стекла и бетона заканчивается, и я снова вижу небо; мелькает череда открытых парковок и низеньких строений.
— Я тебя не побеспокою, если расскажу немного о себе? — спрашивает Тим.
— Пф. Конечно, нет, что за чушь… — Я сомневаюсь, продолжать ли. — Буду рада. Если можно.
Он улыбается.
— Человек, состарившись, начинает говорить только о себе, и всегда одно и то же. Уж извини.
Он просит сигарету.
— Моя мать ботаник, и в детстве я ходил с ней собирать растения для гербариев. Мы постоянно срывали очень красивые цветы и высушивали их, и мне было их жалко. В то же время я радовался, проводя время вместе. Цветы с матерью и рыбалка с отцом. Мои лучшие воспоминания.
Машина замедляет ход. Мой взгляд что-то цепляет с той стороны, где сидит Тим. Одна, две, три пары детских глаз, как у Т. Дж. Эклберга, нарисованные на каком-то здании, пристально следят за машинами на Броуд-стрит.
— Моя дочь здесь училась, — кивает Тим на следующее здание.
— У тебя есть дочь?
— Была.
Некоторое время звуки в машине издает только поворотник.
— Тим, прости…
— Нет… нет. Я именно об этом и хотел тебе рассказать. Мне давно не доводилось общаться с кем-либо так, как с тобой, — качает он головой, — и мне приятно.
Мы курим и ждем на светофорах.
— Вся моя