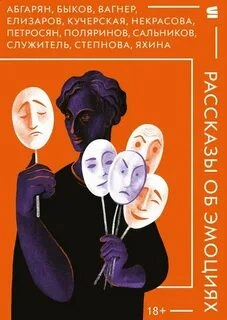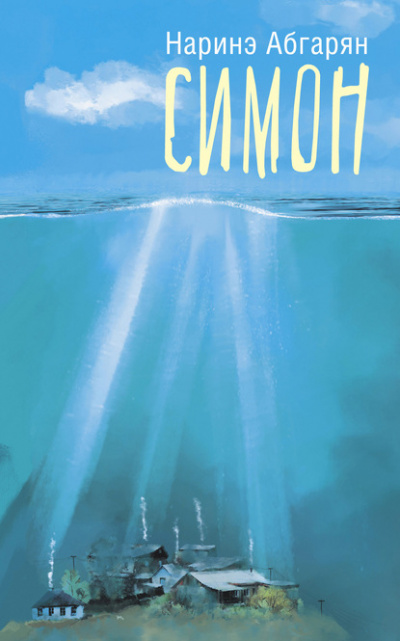Рассказы об эмоциях - Марина Львовна Степнова
Я старела медленно и так долго, что устала сама. Сперва я доходила до бульвара и обходила его, маленький, лысый, дрожащий, три раза. Потом – два. Наконец – один. От этой скамейки до следующей. А потом – до той облупленной, красноватой.
Все, не могу больше. И этого – тоже больше не могу.
«Мам, это Баба-яга? А она злая?» – «Чш-ш-ш! Как ты можешь так говорить! Вам помочь, бабуля?»
– «Нет, спасибо, я сама».
Сама я теперь доходила только до соседнего дома, до милой мелочной лавочки, приютившейся в бывшей двушке на первом этаже. Продавщицы, веселые толстые южанки, перекрикивались совсем по-птичьи. У одной были ресницы как у Окрошки: огромные, синие, такие, что тень на щеках. Завитки тяжелых волос. Бумажная медицинская маска. Запах свежих булок и подгнивающего лука.
«Вам малака и хлебушка, мама?»
Называла меня «мама». За тем только к ним и ходила.
А потом лестница, ведущая в лавочку – три коренастых ступеньки, – стала непреодолимой. И я осталась дома. Совсем одна.
Был какой-то перерыв между волнами и штаммами, на которые уже не хватало очередного алфавита: греческий и латинский были съедены в первые пять лет пандемии; сейчас, кажется, добивали арабский. Во всяком случае, на баннерах агитировали прививаться от штамма «нун». Я не ходила по ссылкам: зачем? Пенсионеров прививали раз в год, в обязательном порядке, дома. В моем браузере была одна-единственная закладка. Я заходила туда каждый день. Тысячу раз – каждый день. Окрошкин «Метаграм». Что-то вроде старого «Инстаграма»[10], но с новыми 7D-наворотами, которые я сразу же отключила, чтоб не мешали. Зарегистрировала меня там тихая скучная девушка-волонтер, приходившая раз в три дня, чтобы поругать меня за то, что я опять ела сырое пшено. «Я же сварила вам кашу, Светлана Викторовна! И суп опять прокис! А ну-ка давайте вставайте, вам необходимо двигаться! Вот так, берите меня за шею, ножку вперед, теперь другую».
– «Не надо. Я сама! Сама топ-топ!»
Я вызвала их, когда поняла, что больше не могу подняться и дойти до туалета. Страшно? Нет, почему же страшно, я знала, что будет так. Я была готова. И потом – они были белые, высокие, ласковые, с невидимыми почти лицами за огненно-бликующими щитками. Меня вынесли на улицу, и несколько шагов, до скорой, я видела закатное небо, вечернее, летнее, серовато-розовое, большое, и ветки деревьев, придерживающие это небо, чтобы не заворачивалось по краям. В машине мне дали плед, который пах совсем как парижский – кошками и домом, и косметичку, пластиковую, твердую, с пандой на переливающемся детском боку, и я все пыталась справиться с тугой и тоже пластиковой молнией, но не могла, не могла, и снова не получилось, а потом скорая остановилась, но неба я уже не увидела, не успела, поехала на каталке по длинной, забирающей на восток кишке, сжимая злосчастную эту косметичку, и мне все казалось, что мы вот-вот окажемся в самолете, как раньше, как всегда, и я шарила по пледу, ища Окрошкину руку. Боялась, что она потеряется.
«Ты не устала? Умница. Держись крепко!»
Это не самолет оказался. Что-то вроде небольшого светлого купе. Только совсем без окон. Капсула. Белые переложили меня на кровать, подоткнули плед, и я вдруг перепугалась: а интернет? Интернет тут есть, скажите, пожалуйста, интернет хороший? Один из белых кивнул успокоительно. Открыл подарочную косметичку. Положил мне на грудь. Они вышли – с тихим шелестением. С тем же шелестением закрылись белые двери.
Я нашарила в косметичке что-то брякнувшее, поднесла к глазам – мой браслет, парижский, подарок на сорок лет, с бубенцом. Пачка посадочных талонов – все, начиная с самого первого. Оказалось – не так уж и много. И еще почему-то гигиеническая помада для губ с ароматом арбуза. Окрошка обожала арбузы. Один год мы даже ездили за ними по пятам – несколько месяцев подряд. Коста-Рика, Чили, Бразилия, Ташкент, Херсон, Крым – еще не наш.
Измазывалась по самые брови, чавкала, раскачивалась, как раввин. Счастливо подвывала.
«Лопнешь, Окрошка!» – «И пусть… На, ма!» – «Нет-нет, спасибо. Ешь сама. Хотя… Давай. Ты смотри – и правда вкусно!»
Скоро ей будет сорок. Подумать только. Окрошке – сорок лет.
В «Метаграме» у нее, кроме меня, тысяча двести восемьдесят шесть подписчиков. И семьсот сорок фотографий. Она выкладывает их утром и вечером. Точнее, это одна и та же фотография – вид из окна. Закат и восход. Каждый день. В одно и то же время. Вытянутая многоэтажка. Двор. Подъемный кран, перечеркнувший небо. Меняется только свет, время года да припаркованные машины. Иногда на снимке играют дети, идут какие-то люди.
Мне нравится думать, что Окрошка так путешествует.
Снято невысоко – второй этаж. На Живописной мы тоже жили на втором этаже. Но что там было видно из окна, я уже не помню.
Свои собственные фотографии Окрошка не выкладывает никогда, но иногда на вечерних снимках я замечаю ее слабую тень на стекле, размытый неясный призрак, который я напрасно пытаюсь увеличить, но натыкаюсь взглядом только на асфальтовые дорожки, выпирающие из-за оградок кусты, россыпь голубей.
Окрошка прячется от меня. Она всегда любила прятки.
– Вы о чем-то сожалеете?
Вы знаете, в машине мы всегда пели.
Не пели – орали хором дурниной на полном скаку, помирая со смеху и бибикая в самых патетических местах. Чтобы все радовались вместе с нами. Песни менялись – иногда раз в год, иногда чаще, но основной репертуар сложился довольно быстро. «Врагу не сдается наш гордый варяг», «Вместе весело шагать», Believer, «Утро туманное», Yesterday.
«Дай, дай и мне погудеть!» – «А волшебное слово?» – «Позастула!» – «Пожалуйста».
Лучшим нашим хитом была, конечно, Bandiera Rossa – для нее в машине опускались все стекла, да что там – для нее мы в первый раз поехали в Италию и всю ночную дорогу от Рима – мягкая кисельная темнота, повороты, огоньки – голосили Evviva il comunismo e la libertà, пока Окрошка не срубилась на полуслове в своем кресле (0+/1, серенькое? Нет, розовое, значит, уже 2/3), и дальше я ехала одна, молча, только мычала тихонечко, чтобы не было скучно зеленому прямоугольнику магнитолы, да все придерживала немеющей, затекающей рукой покачивающуюся Окрошкину голову: ресницы огромные, не лежат на щеках – покоятся, прямая челка до самых бровей, быстрые белые удары встречных фар, красный комбинезончик.
Нам обеим всегда нравилось красное.
Bandiera Rossa.
Утром она проснулась, подбежала к окну, приподнялась на цыпочки навстречу неправдоподобному открыточному великолепию, ахнула, оглянулась. На щеке – отпечаток незнакомой подушки, глаза круглые,