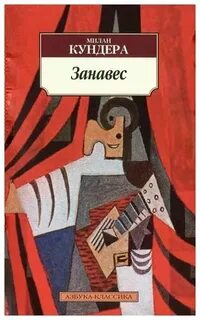Сделаны из вины - Йоанна Элми
Я хихикаю вместе с еще несколькими пассажирами, которые слушают игроков. Постепенно все утихает, мы подъезжаем к Враце.
— Главное, чтобы дети были живы и чтобы деньги присылали, а там уж можно и о демократии разговаривать, — слышу я откуда-то последнюю реплику, прежде чем мы снова поедем.
В моем вагоне не осталось никого.
Дверь открывается, двое мужчин ищут вагон потеплее. Они спорят.
— Тогда я молчал, а теперь не молчу! — говорит один.
— Ну хорошо, не молчишь, а кто тебя слушает? — отвечает другой.
Оба идут дальше.
Мы подъезжаем к краю света. За три станции до конечной я думаю о Чарли Чаплине — жив ли он еще? Набираю имя и город в поисковике, которая мгновенно выдает старую статью в газете «24 часа». Из статьи я узнаю, что у Чарли Чаплина теперь новое амплуа — он изображает Гитлера.
…
Поезд медленно подъезжает к вокзалу. Я кладу телефон в карман и вижу на платформе женщину, которая лихорадочно всматривается в каждое окно, нервно сжимая в руках сумку и переступая с ноги на ногу. В тот же миг мамин взгляд находит мой силуэт, и по ее губам разливается усталая улыбка, которую она бережет только для меня.
Мы расспрашиваем друг друга о самом обыкновенном: кто как доехал, как здоровье, поела ли? Она похудела, не скажешь, что ей пятьдесят лет.
— Как бабушка?
— Завтра выписывают. Я ходила в больницу, прибралась в палате и в тумбочке, принесла новые простыни — старые совсем никакие. Невролога пока нет, будет только в четверг, мы ждем, когда он ее осмотрит.
— Она тебя узнаёт?
— Узнаёт, постоянно спрашивает о твоем дяде, — мама качает головой. Она шагает торопливо, точь-в-точь как бабушка, будто куда-то опаздывает. — Все Павел и Павел. У деда совсем крыша поехала, только и знает, что рыдает, а у меня от этого давление скачет. Надо, чтобы ты помогла мне убрать в квартире, меня чуть инфаркт не хватил, когда я туда зашла. Там вообще ничего не изменилось с тех пор, как я уехала учиться в Плевен. Живут как старьевщики.
Она говорит без умолку, пока мы идем домой: о работе в Германии, о пациентах, о деньгах, обо всем. В первый раз я не чувствую никакого желания сказать что-то наперекор; наоборот, мне приятно ее слушать.
— Она поправится?
— Завтра будут результаты исследований, но инсульт поразил несколько участков мозга. — Она углубляется в подробные объяснения медицинских терминов и диагнозов, которых я не запоминаю.
Главную улицу отремонтировали. Еще когда я была в Штатах, бабушка постоянно рассказывала мне о ремонте, радовалась, что в городе наконец-то станет лучше. Тротуарная плитка уже поломана, фонари покусаны ржавчиной, между бордюрами и тротуаром растут сорняки и трава.
— Как в Сирии, — говорит мама. — Не хочу, чтобы ты сюда привозила своего парня.
Быстрый взгляд на меня: я совсем мало рассказывала ей об Американце.
— Почему же не привозить?
Она молчит.
— Это часть меня и тебя. Какая есть. Мне стыдиться нечего.
На стене дома написано: «Цыган на Луну». Мы открываем дверь под строгими взглядами всех покойников, чьи фотографии с некрологами приклеены у подъезда. Еще один забытый инстинкт — посмотреть, кто умер с тех пор, как ты приезжал в последний раз.
— Бабушка не хочет, чтобы о ней писали некролог, — вырывается у меня. — Она всегда мне говорила.
— Она же не умерла, чтобы мы некролог писали, — отвечает мама будто между прочим. — К тому же ты знаешь дедушку.
Из подъезда пахнет подвалом. Лифт теснее, чем я помню. Мама берет меня за руку, улыбается мне. Нежность между нами неловкая; я бы чувствовала себя намного комфортнее, если бы она меня за что-нибудь отругала. Перебарываю порыв оттолкнуть ее.
Дедушка обнимает меня, он весь в слезах. Похлопываю его по плечу. Я сделана из вины, как хлеб замешан из муки, и ему это известно: он осуждает меня за то, что я осталась в Штатах, за то, что не звоню, что веду себя не так, как надо, он не принимает то, что я не учусь, мою работу, иностранца, не принимает ничего. К моему удивлению, мама предлагает ему угомониться и пойти полежать, успокоиться — вздрагиваю, когда он слушается. Понимаю, что ни разу во взрослом возрасте не видела их всех вместе, рядом.
— Он несет какую-то чушь, — рассказывает она, раздавая приказы по кухне, которые я молча исполняю. — Будто ему приснилось, что прилетали инопланетяне и привезли его мать, бабульку, которая нам с твоей бабушкой отравила жизнь. Хорошо, что ты родилась, а она померла. Вымой посуду, пожалуйста.
Мы тратим остаток дня на сортировку барахла. Я решаю, стоит ли выбросить ту или иную вещь, смотрю на нее глазами бабушки — я так ревностно хранила все ее истории, жадно собирала ее воспоминания. Мама не согласна на компромиссы, не разрешает мне оставить то, что считает ненужным, поэтому я все прячу — под кроватями, в уже прибранных шкафах, у себя в чемодане. Когда она достает длинную палку, которой, насколько мне известно, старики открывают и закрывают шторы, дедушка начинает протестовать.
— Тсс! Тихо! — сердится она.
Он идет к себе в комнату, ругаясь:
— После покойника так убирают, мать вашу за ногу… Мы-то еще даже не умерли… Это труды всей моей жизни, вашу мать…
— Дай мне, я выброшу, — предлагаю я. Она сует палку мне в руки и исчезает на кухне.
Я стучусь в стеклянную дверь, хотя знаю, что он глухой и не услышит. Приоткрываю дверь, он сидит на краю кровати, обхватив голову руками, которых я так боялась в детстве.
— Дедушка, — говорю я.
Он поднимает голову. У него столько морщин на лице, что глаза кажутся щелками. Взгляд тусклый, так бывает в последние годы жизни, когда человек застрял между этим и тем мирами.
— Я спрячу палку здесь, под диваном, понимаешь? Ты ее достанешь, когда мама уедет. Хорошо?
— А? Ты что тут делаешь с этой палкой, а?
Повторяю дважды-трижды, пока ему не станет ясно. Оставляю его вздрагивать от всхлипов и тихо закрываю дверь.
— Поверить не могу, — говорю я маме. — Сколько себя помню, он ее оскорблял, они ругались…
Мама раскладывает начинку для тыквенного пирога по тонкому тесту и скручивает тесто как попало, со своим обычным нетерпением ко всему и ко всем.
— Он меня на участок возил собирать фрукты, — рассказывает она. — Жаловался, что ты не хочешь ездить.
Я киваю.
— Знаешь, мы с твоим дядей там носили кирпичи для дома. У нас не было детства — мы носили