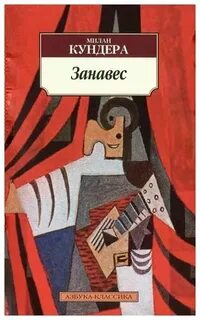Сделаны из вины - Йоанна Элми
Так и начинают стареть? Со временем человек не хочет смотреть, как меняется мир, и изо всех сил пытается засунуть его в чехлы воспоминаний, постепенно становясь чужаком в своей же жизни? Вот почему пожилые люди нам кажутся странными. Я думаю о бабушке и о том, как упорно она не пользуется телефоном, что она была на море только раз в жизни, что не хотела никуда со мной ездить. Ей не нравилось уезжать из родного города; может быть, она действительно боялась… боится, потому что ее знакомый мир по частям подменяют и однажды то, что она видит, будет несовместимо с тем, что она помнит… Я наступаю на навоз и соскребаю его о край кривой плитки. Иду мимо знакомых многоэтажек к дому своего детства. Рядом с ним вижу тощую лошадь, привязанную к дереву у мусорных контейнеров. Еще раз чищу подошву и направляюсь ко входу. Все так, как мне запомнилось. Не буду подниматься до квартиры; открываю старый лифт и вижу новшество: лампочка заперта в крошечной клетке с микроскопическим замочком. Чувствую восхищение перед изобретателем этого устройства: оно доказывает, что именно здесь страна неограниченных возможностей.
Больше не хочу идти пешком и еду на метро. Обедаю и ужинаю в кафе: в обед выбираю кафешку на перекрестке Пяти улиц, заказываю все, чего мне хотелось в последние месяцы и годы. Может, болгарские заведения когда-нибудь придумают специальное меню для вернувшегося эмигранта — таратор, котлеты, шопский салат, сыр в панировке, баница, йогурт с грецкими орехами и медом. Вечером выбираю современное заведение, украшенное вывесками, предметами и фотографиями эпохи коммунизма. Я ем ту же самую еду, только она оформлена по-другому, более современно, «фьюжен», объясняет официант. Блюда подаются в старых эмалированных мисках, в таких бабушка когда-то готовила тюрю, и я ловлю себя на мысли, что хочу такие же домой.
Тем вечером мне снится мой детский кошмар: я захожу в обитый деревом лифт в своем доме на улице Царя Симеона и нажимаю кнопку четвертого этажа. Еду. Первый этаж, второй, третий, четвертый, лифт не останавливается, едет дальше: пятый, шестой, седьмой… Я нажимаю все кнопки, кнопка остановки не работает, передо мной тянется бесконечная полоса: дверь-бетон-дверь-бетон-дверь-бетон…
Проходит ужасно много времени, лифт наконец останавливается, я выбираюсь из него и спускаюсь по бесконечным лестницам, натыкаюсь на десятки незнакомых дверей, не могу найти свой дом. Просыпаюсь. Как всегда, вкус этого сна остается на весь день.
…
Я приезжаю на вокзал заранее: унаследовала привычку приходить без надобности загодя. Вернуться в воспоминания можно только на поезде. Вот еще одна забытая деталь: люди всегда спешат, боясь, что поезд уйдет без них, и всегда спрашивают проводника, их ли это места. Другой вечный страх — сесть не на свое место. Я покупаю соленые крекеры, воду, айран. Прохожу мимо пары палаток с выпечкой, из витрин на меня маслено смотрят разные пироги, пицца с тестом толщиной в три пальца, бутылки с коричневатой бузой. Все одновременно старо и ново, я все вспоминаю и в то же время вижу впервые. Может быть, единственный способ полюбить родину — покинуть ее.
Поезд отправляется вовремя. Я еду в общем вагоне, он почти пустой. Кроме меня, в вагоне едут только парень-цыган, в наушниках которого жужжит музыка, и пожилой мужчина, сидящий у дверей, — он такой старый, что кажется, ему больно просто оттого, что он живой. Он то хрипит, то кряхтит, но вскоре стук поезда поглощает это неприятное урчание. Я открываю книгу, в которую так ни разу и не заглядываю. Софийская котловина набирает скорость, постепенно собирается в складки и разбивается в разноцветные склоны Балкан. Пассажиров мало, тот парень выходит в Своге, старик засыпает. В осеннем пейзаже распознаю разрушающиеся заводы; бараки, окна которых обклеены выцветшими плакатами большегрудых певиц и проигравших политиков; облезлые станции и рано поседевших людей. Вижу скульптуру партизана, его каменный взор следит за окрестностями.
Наблюдаю, как люди в вагоне кладут сумки и тележки на полки, а потом распаковывают свои истории. За моей спиной разговаривают двое пожилых людей.
— Вот я ему и сказал: продавай, пока можешь, продавай. Здесь никого и ничего уже не осталось. Еще и эти годы плохие…
— Вот-вот, я здесь живу уже больше шестидесяти лет, мне самому восемьдесят с гаком… и в марте никогда не нужно было поливать! Лето совсем…
— Лето, да что за лето? Всю зиму — лето! — раздается возмущенный голос. — Жена поливает тюльпаны, а они вот такусенькие. — Я представляю, как он показывает размер большим и указательным пальцами, умираю от желания обернуться и посмотреть на них, но тогда они меня раскроют. — До двух сантиметров не дорастают. Деревья цветут как угорелые, а фруктов нет…
Воображаю себе их шерстяные носки, черные резиновые галоши, выгоревшие кепки, вязаные жилетки.
— Я вот лозу подрезал месяц назад, наверное. Все жду и жду, окосел уже смотреть… а винограда нет! Все нет и нет. Никогда такого не было…
— Дык ты что, не слышал, по телевизору? — говорит второй уверенно, его голос подкрепляется авторитетом телевизора. — Думаешь, мы одни такие? Во всем мире то же самое…
От дедушки я знаю, что этот поезд называли масленым. В детстве я думала — потому, что в нем грязно, а потом узнала, как Северо-Запад кормил голодную Софию. Когда я была маленькая, мы с мамой приходили на вокзал забирать посылки, которые отправляла бабушка: пропитанные запахом деревенского дома, перевязанные пенькой, надписанные вытянутым бабушкиным почерком — и обязательно с парой вязаных носков внутри.
Вершины гор украшает нежный туман, трава вдоль железной дороги покрыта инеем, от излучин Искыра скачут солнечные зайчики. После Мездры стрелки часов поворачивают вместе с поездом, и время идет назад, покрытые лесом горы переходят в ржавчину, пыль, глину и чернозем. В поезд садятся мужчины в форменных майках разных футбольных команд и растрепанные женщины с большими клетчатыми сумками на плечах. Вагон наполняется народной музыкой, шелухой от семечек и скорлупками фисташек. Время тянется еще сильнее, теперь оно измеряется конами в карточной игре белот. Трафик в сторону туалета в последнем вагоне стабилен — туда ходят курить.
— Ну, мастер, сдавай! — слышу я.
— Пусть тебе другой мастер сдает, — отвечает кто-то обиженно.
— Куда вам со мной тягаться, это же я все карты придумал, — подхватывает третий.
Следует короткий тост.
— Эх, мать его за ногу, ошибся я, не сосчитал пики!
— Поэтому пьяному в карты нельзя играть… Это