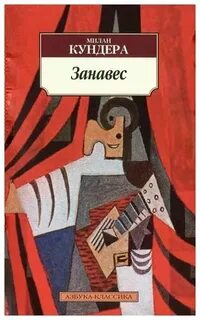Сделаны из вины - Йоанна Элми
Он заглядывает в кувшин: на дне осталось чуть-чуть вина. После недолгой внутренней борьбы наливает его в ту же стопку, из которой пил ракию. Постепенно его слова начинают спутываться, спотыкаться о язык, голова медленно опускается на грудь.
Смотрю на бабушку — она делает мне знак спасаться: сейчас или никогда. Тихонько выхожу из-за стола: дед все равно глухой, не услышит, даже если кричать; она идет за мной. Пока готовлюсь ко сну, она, как всегда, рассказывает мне свои истории — будто в первый раз. Интересно, она правда забывает или так гравирует свой завет у меня в памяти? На пестрых обоях ее тень. Она говорила мне, что всю жизнь ждала хороших обоев — всегда ей попадались некрасивые, тоскливые, точно для склепа.
В детстве я представляла себе коммунистов большими монстрами с острыми зубами и щупальцами. У них двадцать ушей, которые все слышат, и девять мозгов — как у осьминогов, у которых несколько сердец, — чтобы все помнить и знать. Я боялась их, потом стала по-детски их ненавидеть, как только родитель может научить ненавидеть то, чего ты не понимаешь. Послезавтра, когда сяду в самолет в Америку, буду ли я одна, или со мной рассядутся все — бабушка и дедушка, их родители — фашисты и кулаки, бабушка моей бабушки, которая умерла, когда сгорели церкви…
Я подхожу к стойке, кладу тяжелый чемодан на ленту и по привычке смотрю на цифры весов, которые должны сказать мне, что все в порядке. Сначала цифры растут медленно, потом сильнее — 10, 15, 20, я превышаю допустимый 21 килограмм, потом 30, 75, 100, 187, 200, 260, 400… Сотрудница аэропорта смотрит на меня удивленно, я паникую. Говорю, не знаю, что происходит, может, весы сломались; она меня не слышит, весы сходят с ума: 2000, 3000, 5000…
Придется открыть багаж, произносит она ледяным тоном.
Конечно, мне нечего скрывать, правда не понимаю, мямлю я, пока она ловко находит бегунки молний на розовом чемодане. Открывает его на себя и скрывается в его зияющей пасти. Через секунду вытаскивает оттуда дедушку, который идет осматривать аэропорт и матерится. Затем выходит бабушка, она держит за руки всех двоюродных братьев и сестер, дядей и теток, которых я знаю только по ее рассказам; потом сотрудница аэропорта достает моего дядю, который говорит мне единственное, что я от него помню: Ты, Янка, знаешь, что дети не люди? Пока им пятнадцать не стукнет, они не люди… Его голос отражается эхом в аэропорту, другие пассажиры оборачиваются и неодобрительно глядят на меня. Внезапно вокруг собираются сотни, тысячи людей, все из чемодана, а я уменьшаюсь, смотрю на свое отражение в стекле стойки и вижу, что мне не больше десяти лет.
Мы не можем отпустить вас в Америку, произносит девушка из-за стойки. Вам придется остаться. Вы слишком маленькая. У вас есть родители или опекун? Идите домой.
А я слышу свой детский голос, он убеждает ее, что так нельзя, что мне этот багаж даже не нужен, я куплю себе одежду и все, что надо.
Вы не можете никуда ехать, потому что вы не человек, отрезает она, а я отвечаю, что не могу им не быть, мне ведь даже дали визу, я была на собеседовании в американском посольстве, давайте паспорт покажу. Я начинаю искать паспорт, но не нахожу, его нет в кармане куртки; наверное, в сумке, но сумка пропала. Вдруг понимаю, что стою совершенно голая, из чемодана уже вышли все, таращатся на меня и стыдят перед другими пассажирами. Девушка повторяет, что мне нельзя никуда ехать, а я кричу ей в ответ, что я человек и у меня есть виза.
Тут я вздрагиваю и просыпаюсь. Бабушка, увлекшись плетением своих историй, даже не заметила, что я задремала.
ночь
Одну историю она рассказывала чаще других: что в своей жизни она любила только одного мужчину. И этот мужчина не мой дедушка.
Его имя всплывает где-то между рассказами об аде после 44-го и аде после свадьбы.
Собрали скот для колхоза и оставили в загоне посреди поля, в холоде и без еды. Животные ревели и кричали дни напролет, все село слушало, и каждый ждал, что кто-нибудь первым не выдержит. Самые смелые убивали скот до передачи. Ее отец не смог так поступить.
Подожгли церковь. Моя прапрабабушка — набожная деревенская женщина с четырьмя классами образования — смотрела на пожар и плакала, повторяла, что святое место нельзя разрушать. Им удалось спасти три иконы, они их завернули в белые расшитые полотенца — раньше в такие клали еду и деньги на праздники. Прапрабабушка слегла. Лежала и только прижимала к груди завернутые в полотенца иконы, не отпускала их. Ее простыни посерели, она совсем перестала узнавать близких, разум ее уже покинул, только тело запаздывало. Она называла иконы именами внуков. Их похоронили вместе с ней. Хорошо, что она не дожила до того, как ее последнего живого внука увезли в концлагерь в Белене.
Недавно бабушка в очередной раз рассказывала мне о том, другом. Здесь, на пляже, как сейчас. Было ветрено, люди запускали воздушных змеев. Собралось много бабушек и дедушек с внуками. И обычно говорила она. Я не могу передать ей этот мир, он так чужд ей, слишком настоящий, слишком здесь и сейчас. Мы же встречаемся только в прошлом.
5.
— Болгария? Это где-то в России? — улыбается обгоревшее на солнце лицо.
Как можно ходить в ресторан в шлепанцах? Заведение воплощает американскую идею об элегантности. Вершина ее —