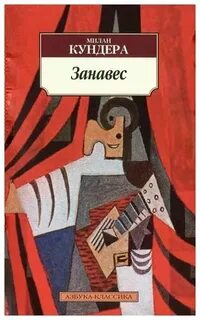Сделаны из вины - Йоанна Элми
— Купи одну, получишь трех бесплатно! — улыбается Данчо.
— А так браки здесь десять тысяч стоят. — Крис пристально смотрит на меня.
— Да ладно тебе, придурок! — говорит Данчо. — Тебе самому придется платить, чтобы за тебя замуж вышли, если до этого дойдет. Если найдется такая дурочка…
— Не слушай его, Крис, — успокаивает его Сильвия. — А ты — скажешь тоже, гадости какие! Ух, обожаю эту песню! — Она спешит в центр гостиной, подняв руки и прищелкивая пальцами.
— Само собой, если у нас что-то освободится, можешь переехать сюда. У нас около двадцати студентов, по четверо-пятеро в комнате, зато недалеко от города. Не знаю, получится ли, но вдруг… В маленькой комнате спят двое, в большой шестеро, в другой спальне еще трое… Если хочешь, можешь брать у нас заказы на уборку. Десять долларов чистыми, никаких контрактов и налогов, ничего. Вместо того чтобы пахать на тупых американцев, можешь работать за хорошие деньги. Не делать для них самую хреновую работу за гроши.
— Ну уж и за гроши, — перебивает его Эмиль.
— Да, я не намерен делать для них дерьмовую работу… Предпочитаю работать на себя. Не пахать на них, не быть их негром.
— Что с того, что ты не будешь пахать? Найдется десяток других, кто будет и при этом — бонус! — даже рта не откроет. Или придут латиносы и сделают то же самое втрое быстрее и вдвое дешевле. Вот почему повсюду полно всяких Мигелей, Анхело и Хосе. Из-за таких, как ты.
— Да ну их на хрен! Я что, из какого-то богом забытого тропического болота с комарами? Пусть хоть за пять центов работают, если хотят. Я же их видел, нанимал, они один сортир не могут вымыть по-человечески. В итоге все равно приходится отправлять кого-то из наших, наши все равно моют лучше всех…
Я киваю на прощание и оставляю их. Пока разглядываю дом, слышу отрывки продолжающихся споров. Все выглядят счастливыми. Ярко накрашенные лица, залитые лаком локоны, чуть больше блеска и страз выдают, из каких все мест. Есть что-то странное в самом доме, во всех этих людях, которые перевезли восточноевропейскую и балканскую жизнь в чужое пространство. Вдруг я понимаю, откуда у меня весь вечер легкое дежавю: мне кажется, будто это вечеринка в школе. Кроткое жужжание голосов переходит в угрожающий шум. С облегчением выхожу на пустую веранду.
Я заметила, что все здесь настаивают на своих родных именах. Стэн был навязан Станиславу Алиной, и теперь бедняга каждый раз уточняет — меня зовут не Стэн, а Станислав. Кому какое дело? У меня два имени — Яна и Jane. Я чувствую, как они отдаляются друг от друга, будто хорошие друзья, которые со временем перестают общаться.
Ту девушку никто не упоминает по имени. Ее называют Сбитой, Погибшей. Есть ли здесь ее друзья? Говорит ли кто-то о ней как о человеке, у которого есть имя, или она переформатировалась, превратилась в сплетню? Холодный бриз с океана свистит в горлышке моей бутылки. В траве поют сверчки. Ветер обнимает меня и навевает убийственную ностальгию по каждому голосу, запаху и прикосновению, которые когда-либо были в моей жизни, но ушли навсегда; ностальгию по прошлой жизни, что каждую секунду утекает, как песок сквозь пальцы.
ночь
В детстве я часто смотрела, как бабушка пересаживала цветы. О таких людях говорят: легкая рука. Она сначала выращивала их в баночках из-под йогурта, поэтому дома мы складывали целые башни из этих баночек, а потом отвозили их в деревню.
Бабушка брала молодое растение за стебелек и аккуратно его трясла, чтобы земля тоже отстала от стенок. Затем наклоняла баночку и ловко вынимала стебелек, на конце которого держался ком земли, повторявший форму баночки. Стряхивала старую землю — из черно-коричневой массы выглядывали корешки — и бережно сажала растение в заранее вырытую ямку на грядке или в горшок побольше.
Корни одних растений были более крепкими, других — совсем хилыми, как волоски. Бабушка никогда не сдавалась, если дело касалось растений: совсем засохшие преображались после пересадки или переезда в другой конец участка, другие чахли неделю-две, а потом привыкали и снова начинали расти. Бывало, хоть и редко, какой-нибудь цветок погибал, и бабушка говорила с досадой, что иногда они не привыкают к новой почве, что бы ты с ними ни делала.
Первые несколько дней, недель, месяцев на новом месте — это пересадка. Банальное: спросить на улице, который час или где находится нужное место, случайно заговорить с кем-то, разобраться, что написано в квитанции за электричество, встретить знакомого на рынке, запомнить, что можно купить в магазине по соседству, слушать новости по радио в автобусе — все это почва, хотя ты этого не замечаешь. Ты без корней бродишь по улицам, заглядываешь в окна домов, и тебе странно думать, как эти люди могли жить здесь всю жизнь, с соседями, которые тоже здешние, знать названия местных школ и наизусть помнить дорогу на свою многолетнюю работу. И новости здесь другие, и реклама, даже мусор выбрасывают по-другому. Чужое сильнее всего ощущается в якобы знакомом — в супермаркетах, больницах, учреждениях.
В Америке я впервые понимаю, что другой язык может быть не только окном в мир, как говорила бабушка, но и тюрьмой. Я знакомлюсь с уборщицами и прачками, а они на самом деле учительницы или медсестры, парализованные чужим языком. Они едва говорят на нем, с сильным акцентом. В кругу своих громко смеются, стреляют глазами с длинными темными ресницами и кокетливо вскидывают головы, чтобы показать глубокое декольте; перед американцами же сжимаются, лепечут тоненьким голоском и смотрят под ноги. То же самое происходит с мужчинами. Они с едким превосходством смотрят на все чужое, пока горечь невежества собирается у них во рту и в конце концов оказывается смачным плевком на асфальте.
Будь я растением, корни у меня были бы тоненькими, как шелковые ниточки. Я думала, это из-за почвы — оскудевшей, бедной. И мне