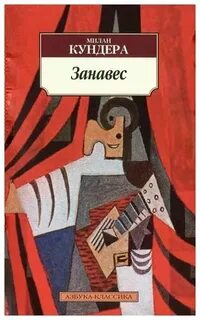Сделаны из вины - Йоанна Элми
Яна
В последний раз я встречаюсь с бабушкой и дедушкой незадолго до отъезда: собираюсь оставить им кошку. Грустно, что мне надо сбежать от людей, чтобы их полюбить.
Мне так и не разрешили повзрослеть. Или это я сама себе не разрешила. Когда переступаю порог их дома, годы тают, мне снова девять лет, на дворе всегда лето, день растягивается до бесконечности — как в то время, когда дедушка запирал меня дома, пока они возились с банками на садовом участке, потому что я могу удрать женихаться с мальчишками, а он не хочет растить гулящую девку. Я смотрела с балкона, как под окнами дома собираются дети; мы кричали друг другу всякую ерунду, договаривались, что я выйду. Я всегда назначала им самый ранний возможный час, надеясь, что свобода наступит к половине пятого или шести вечера. Бабушка с дедушкой никогда не возвращались вовремя, всегда задерживались. Я выходила только в девять, иногда в десять часов, когда игры уже были в самом разгаре, и новый участник служил помехой, приходилось прерываться для скучных уточнений, в какую команду мне идти и начинать ли игру заново. В конце концов я перестала выходить. Но до сих пор помню эти самые мучительные три-четыре часа, когда солнце тает на горизонте, город издает прохладный вздох облегчения, а люди собираются на лавочках и в беседках.
Квартира не изменилась с моего детства, с маминого детства. Я чувствую знакомую духоту, заставляю себя улыбнуться, обнять дедушку, оставить сумки в спальне.
— Он вообще не хочет, чтобы ты ехала в Америку, — говорит бабушка. — Боится, что самолет упадет.
Стол ломится от блюд. Еда и вещи заполняют дыру на месте, где должна быть человечность. Я ем и молчу. У меня выработалась привычка не слушать, что они говорят. После третьей стопки ракии дедушка оплакивает судьбу моего дяди. После пятой — свою судьбу. Во всем виноваты коммунисты.
— Он мог стать военным, а теперь они не могут набрать солдат, никто не хочет служить в армии, туда их через колено. Чертов полицейский получает больше денег, чем военный. А полицейский сидит при жене, при ее голой заднице! Вы ничего не знаете, вы не служили…
Моя бабушка стыдилась его всю жизнь. По крайней мере, я так думала. В детстве мне казалось, что она заставляет себя смеяться над его словами. Теперь я в этом не уверена.
— Ты говоришь ерунду. Я двадцать лет бегала между лечебницей и казармой по работе… Знаю, какими они были тогда… А теперь начинают говорить, посмотрите, как все было раньше… Вот как оно было: пришел к нам на свиноферму парторгом офицер, коммунист. Вдруг одна наша сотрудница вышла, смотрю — подхватила офицера и увела его. Что случилось? Он не мог смотреть на кровь. Поплохело ему, голова закружилась. Посадили его на лавку, а я говорю: «Вот тебе и защитник Болгарии! В обмороки падаешь? Как же ты в бой за собой поведешь?»
— Мужик, мужик, мужик… — Дедушкин кулак продолжает стучать по столу.
На моей памяти они всегда говорили так — два отдельных рассказа, параллельно, только не друг с другом. Две версии одной и той же жизни.
— Я-то был в военном училище в Шумене, нас четверых туда отправили. — Дедушка наливает четвертую стопку, бабушка обгладывает куриную косточку. — И приходит взводный: «Спасов, завтра распределяют тебя, приходи за формой». Но сначала зарядка. Ты не знаешь, каково это — быть военным, какие там физзарядки — диву даешься. И я испугался, думаю: «А не пошел бы ты…» и удрал. Вернулся домой, и там меня отец спрашивает: «Игнат, ты чего?» Я говорю, мол, так и так. Как он вскочит! Щас как возьму, говорит, это полено да как вдарю тебе по башке! И отправил меня назад…
— Он был внук царского офицера, дед твой. Его дед был царским офицером, — гордо говорит мне бабушка и берет другую косточку.
— А кто не был царским офицером? — рявкает дед. Потом невозмутимо продолжает: — Ты знаешь, куда меня послали? Пограничником, девятнадцать месяцев на греческой границе. Там не так, как в казарме. Не как в ресторане, где тебе бабы еду подают! — Он смотрит на меня, в его водянистого цвета глазах плавает разочарование. Я не впечатлена и ни о чем не спрашиваю. Он машет рукой: — Ты молодая еще, тебе трудно это понять, мне кажется… Армия — вот где учатся дисциплине, учатся делать не то, что хочется, а то, что тебе говорят!
На мгновение он теряется в прошлом, а я — в своих мыслях.
— Я мог бы майором стать… — Пятая стопка. — Если бы остался в артиллерийском училище, в сорок пять лет стал бы, но теперь мне уж восемьдесят… Во сколько лет я бы тогда вышел на пенсию? Но не все же бывает, как хочется… Самые бездельники оказались те, кто из Западной Фракии. Был у нас один такой, Георгий Стаматов, партизан, тот еще дармоед. Пришел в школу — читать не хочет. А у учительницы французского муж был адвокатом в царское время. Богатый, ну и конфисковали у него все. А она такая славная, сама доброта! В гимназиях тогда печки топили углем… Так вот, Стаматов заехал по печке ногой, труба покосилась, все в дыму — учительница не может вести урок. Через несколько лет… встречаю его на заправке. Четыре звезды! Капитан! Ну, как так, скажи мне? Теперь мне кажется, что они нарочно это делали, запугивали ее из-за мужа… Когда я увидел его с погонами, у меня все внутри сжалось… Думал раньше: вот бы до полковника дослужиться! Но я-то не был подонком! Но в этой стране, чтобы звание получить, надо быть подонком.
— Да какой из тебя полковник, у тебя жена-фашистка! — натужно смеется бабушка.
— Фашистка… — Он показывает на нее, как будто знакомит меня с ней. — Отец и дядя ее — фашисты! Какие они фашисты, какие фашисты, ты мне скажи… Обычные бухгалтеры! Отец ее был офицер запаса, даже записался в колхоз, только вот не работал… И писали, писали про него — этому нельзя! И детям его нельзя! И их детям тоже… А другому кому, пусть он дурак последний, — этому можно! Этого назначим!
Он пьян. Я еще чувствую вкус детского страха, который мешает мне говорить, формулировать мысли, встать из-за стола.
— Интересный народ! — обращается он ко мне, как будто я ему о чем-то напомнила. — Вот Америка… Есть один учитель