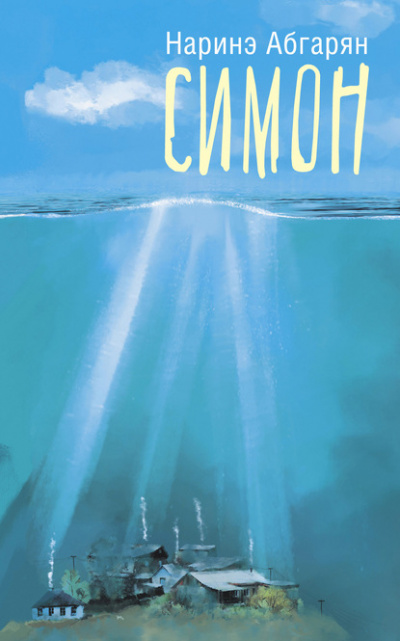И было это так - Лена Буркова
– Ожидаемо, – тяжело вздыхает Бог. – Не ты одна вспоминаешь обо мне исключительно в тошнотворные периоды жизни.
– Обижаешься?
– Из-за чего обижаться? Из-за природы человеческой? Я давно уже усвоил, что безмятежность и процветание не побуждают к молитвам: только горе, только слезы, только хардкор… Что может быть естественнее, чем искать, корчась от боли или страха, поддержку в высших силах? Верно. Ничего. Люди всегда возлагали надежду на сакральное и мистическое: божества, идолы, талисманы, обряды, «перешли такое-то сообщение десятерым друзьям, иначе тебя в автобусе настигнет понос!» – ассортимент чрезвычайно забавен и разнообразен. И если ты переживаешь, что я злюсь из-за того, что меня не зовут на шумные тусовки с настойками, игрой в «Монополию» или «Тайного Санту», а приглашают посидеть-поскорбеть-похандрить в пасмурной тишине, – то я не злюсь: вы все делаете правильно. Не верь тому, кто с пеной у рта доказывает иное. Ибо в радости следует быть радостным, а не отягощенным гнетом принудительной благодарности тому, кто вовсе не требует благодарности. Награда мне – не восхваление, не раболепие и не билеты на искрометное пати. Награда мне – знание, что вокруг стало меньше страданий. Загрузил? Запутал? Или смекаешь?
– Вроде бы смекаю.
Заторможенно переваривая огромный массив полученной информации, я параллельно обследую ладонями свои уши-подбородок-плечи-живот-бедра на предмет их физического присутствия (все на месте и все достаточно плотное), щипаю коленку (немного больно) и, пользуясь случаем (когда еще такой шанс представится?), спрашиваю:
– А как ты относишься к тому, что тебя упоминают в будничном разговоре в качестве междометия?
– Ты про так называемое богохульство? – подмигивает насмешливо Бог. – Мда, терминология у вас… Кто, вообще, это понятие в употребление ввел?
– Угрюмые люди без чувства юмора.
– Оно и видно.
Прикинув риски, а точнее их полнейшее отсутствие, я маленькими шажками перемещаюсь вперед (переставляя босые ноги с булыжника на булыжник с преувеличенной осторожностью), подхожу к Богу и, пытаясь уловить в мимике хотя бы малейшую тень притворства, заглядываю ему в лицо:
– Не возникало позыва небеса разверзнуть и покарать богохульников в поучение?
– Не замечал у себя пристрастия к первобытной свирепости, – хмурится Бог. – Или ты меня за маньяка принимаешь, который хмелеет от власти, а после, опьяневший, чинит расправу над своими птенцами без повода?
– Почему же за маньяка? – отзываюсь я. – За школьного завуча, прожигающего грозным взглядом нутро учеников, которые сидят на подоконниках и курят за спортзалом.
– Предрассудки, – укоризненно кривит губы Бог. – Слегка тоскливо, что мной, будто прикроватной бабайкой, людей стращают! По правде говоря, мне куда тягостнее столкнуться не с богохульством или искажением моего образа, а с обесцениванием бесценной ценности, именуемой как «счастье жить свою единственную жизнь» и воспринимаемой некоторыми так, словно я им тягучую и пресную работу поручил выполнить. Если подобное имеет место быть – то в чем тогда смысл моей деятельности? Далеко ходить не нужно: взять, к примеру, твою ситуацию.
– Мою ситуацию? – поджимаю я невидимый хвостик от бесперебойно набегающей на берег воды и не отстающего от нее смятения.
– Твою ситуацию.
– И какая она?
– Весьма и весьма досадная.
Душа (и сердце, и желудок, и селезенка за компанию) проваливается прямо к ядру Земли, собирает грозди смачных ссадин и синяков. Неужели – он обо мне знает то, что никто другой не знает? Неужели – все? А может – не просто скромное «все», а оголенное «все-все-все»?
– Знаю – все-все-все.
Конечно, знает. Конечно, до мельчайших и неловких подробностей. Он же Бог. Ему, согласно должностной инструкции, положено быть предельно осведомленным. Но какое же позорное пятно отныне красуется в моем личном деле, какой сокрушительный удар нанесен по достоинству, какая атомная угроза нависает над репутацией! Хотя стоит ли вообще заботиться о безупречной репутации, если бессовестная совесть подстрекает торжествовать труса и, шустро сорвавшись с места, бежать за тридевять земель? Вот только как бежать, когда ноги – вялые и ватные? На каких бы плоскостях распластаться, чтобы не ощущать на себе этот атипичный взгляд: совсем-совсем не подростковый, от макушки до пяток рентгеновскими лучами сканирующий, по винтикам-гвоздикам-шурупчикам разбирающий и хранящий в себе, как жесткий диск на тридцать терабайт, воспоминания о бесчисленных историях человеческих жизней? За каким бы деревцем спрятаться, чтобы не разлепить внезапно пересохшие губы и не попросить, чуть или не чуть презирая себя, и жалея, и еще больше за жалость презирая: «Не смотри так, пожалуйста, не смотри так…»
– Как – так?
Словно я подвела и предала – и ты во мне окончательно разуверился. Как, например, в чайном пакетике, нитка которого отрывается в момент наивысшего эмоционального напряжения. Или как в разряженном мобильном телефоне, не способном на выходе из метро открыть карту, построить маршрут и привести к нужному сооружению, обязательно имеющему дробь и литеру для углубленной мутации квеста . Или как в протертой подошве, самовольно оторвавшейся от зимнего ботинка ровно за неделю до выплаты гонорара.
– Да ладно, – рассеянно почесывает локоть Бог. – Нашла кого стесняться и страшиться. Всякое бывает. Даже со взрослыми. Тем более со взрослыми. Ты наверняка догадываешься, что я значительно старше тебя – но и мне однажды хотелось бесповоротно уйти в небытие, испариться туманом, развеяться дымом. Чувство безысходности захлестнуло меня так, что, казалось, оно вот-вот выльется всемирным потопом, поднимется до снежной верхушки Арарата и во веки веков не иссякнет. В очередной душераздирающий день я подумал: а вдруг у меня получится самоликвидироваться? Подумал: для человечества, возможно, нет особой разницы между «я есть» и «меня нет»? Пришел к заключению: если я никак не могу повлиять на происходящие ужасы, то абсолютно нет разницы между «я есть» и «меня нет».
– Безрезультатно? – робко шепчу я, стараясь не отпугнуть нечаянное откровение.
Чайки, чуя чуткость и тонкость момента, замедляют свой славный полет, деликатно приземляются поодаль и, прижав серые крылья к белым бокам, замирают фарфоровыми статуэтками на продубленных муссонами камнях. Замирает в нерешительности ветер. Одно только море продолжает вести свой монолог, неизменно уместный и анестезирующий, не имеющий ни начала, ни конца.
– Как видишь, – кивает Бог. – Вроде бы всесильный, я тогда оказался совершенно бессилен против массового геополитического сумасшествия, против мора Первой и Второй мировых войн, против нового оружия, способного уничтожать одним залпом батальон покорных и обреченных на смерть солдат. Падая в лужи грязи и испражнений, истерично рыдая, вскрикивая